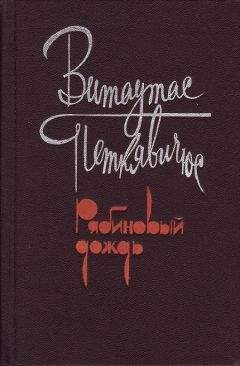Константин Федин - Города и годы
Из двери, выходившей в сад, по земле стлался холодноватый, сладкий запах йодоформа. В комнате, куда они вошли, вдвинутый в нишу сырой стены, стоял оцинкованный большой сундук. Крышка его была чуть приподнята.
Курт открыл ее. В сундуке валялись человеческие ноги и руки с содранной кожей, куски посиневших мышц, белые кости с раздерганными, как мочало, сухожилиями, багровые, черные, сизые [79] внутренности — кишки, печень, легкие. В уголке сундука, освещенные дневным светом, проникшим через дверь из сада, прижались друг к другу две головы. Затылок одной был оскальпирован, и мелкой кровавой пилкой бежали по голове черепные швы. Шея другой головы — безволосой и хорошо сложенной — была обнята, точно галстуком, пухлой, синей детской ручонкой. Тут и там желтели горки какого-то порошка.
— Пойдем, — сказал Андрей. Курт молча смотрел в сундук.
— Пойдем, здесь задохнешься.
Курт опустил крышку и, улыбнувшись, тихо взял Андрея под руку.
Они прошли просторной, светлой комнатой, уставленной высокими узкими столами, крытыми стеклом. Столы были чисто вымыты, пол блестел, от двери к двери гулял холодноватый, попахивавший камфарой сквознячок. Полумрак сводчатого коридора вел к широкой лестнице. На площадке, подле столика, сидел сторож. Он снял фуражку, спросил:
— Господа желают осмотреть музей? Потом двинулся вперед.
Один за другим тянулись стеклянные шкафы. В шкафах на стеклянных полках строились по высоте и диаметру стеклянные банки с заспиртованными препаратами человеческих органов. Стекло, спирт и синие, сизые, красные куски, нити, волокна, комки человеческого тела — все, что наполняло просторные, высокие залы.
Солнце безудержно лилось в чистые окна, и по стенам, потолку, полу, на платьях, руках и лицах людей дрожали горячие многоцветные спектры, преломленные шкафами, полками, банками и спиртом. [80]
Вдруг сторож остановился, отставил одну ногу, заткнул большой палец правой руки за борт мундира и открыл неторопливо рот:
— Отделение эмбриологическое. Первое во всем мире по числу препаратов.
Здесь, в баночках, едва отличимых друг от друга по величине, плавали желтоватые комочки зародышей — целый сонм нерожденных душ. Потом тянулись сомкнутые ряды головастых человечков с прижатыми к животам тонкими ножонками и перепончатыми пальцами рук. В конце — в банках вместимостью в ведро — глядели себе на коленки дети, похожие на тех, каких видят у своих постелей очнувшиеся после родов матери. Дальше, в другом зале, мутнели на солнце куски мозга, и за ними, под особым стеклянным футляром, осела на дно широкой банки человеческая голова.
Она была низколоба, и через весь лоб ее шли стежки небрежного шва. Карие глаза были открыты, зрачки расширены и устремлены в какую-то цель, стоявшую, наверно, прямо перед ними. Над верхней губой и на щеках торчали в разные стороны короткие, толстые темные волосы, — они были бриты не раньше, как за неделю до смерти. И все лицо, обрубленный кусок шеи и уши были густо-сини. Под футляром стояла дощечка:
ГОЛОВА ЗНАМЕНИТОГО УБИЙЦЫ
КАРЛА ЭБЕРСОКСА (ПОСЛЕДНЯЯ ПУБЛИЧНАЯ КАЗНЬ В НЮРНБЕРГЕ)
— Мой отец присутствовал при этой казни, — начал сторож, отставив одну ногу, — и если господа желают... [81]
— Послушай, — вдруг проговорил Андрей, — на кой черт, собственно, мы все это смотрим?
Курт вскинул голову.
— Это знаменитый музей.
— Я приехал сюда на карусели, а не к покойникам.
— Мы успеем и на карусели. Но этот музей...
— К черту музей, к черту Карла Эберсокса, я хочу на воздух, на солнце!
В Эрлангене много воздуху.
Вдыхать его, сидя на балконе с трубкой в зубах и за чашкой кофе, — наслажденье, каким может похвастаться только маленький городок.
За полдень, когда ясно обозначится покойная теневая сторона главной улицы и когда в каждом окне повиснут коврики, подушки и перины, на эрлангенских балконах в покатых креслах полулежат студенты.
Из университетского сада плывут легкие ароматы цветущих деревьев, снизу, от шумливой, верткой речонки тянет холодком и влагой. Небо поднялось бесконечно высоко, и городку легко, приятно и удобно. Дороги и тротуары безлюдны.
— Ге-ге! — несется с балкона звонкий голос. — Ге-ге! Эрих! Как поживаешь после вчерашнего казино?
— Не смейся, малыш: за ночь моя талия увеличилась на пять сантиметров...
— Ха-ха!
И вот с балкона на балкон из одного конца улицы в другой:
— Ге-ге, коллега! Что вы там ржете?
— С Эрихом хирургический случай: у него растяжение талии! [82]
— Ха-ха!
— Корпорация Альфа против радикального вмешательства. Попробуйте бужирование.
— А что вы пропишете против легкой хрипоты?
В узких переулках от дома к дому:
— На главной улице ищут подержанные брюки: пояс — полтораста сантиметров.
— Ха-ха!
За балконами, в невысоких комнатах с занавесочками и ковриками, старательные хозяйки начищают сапожным кремом башмаки своих жильцов. В университетских лабораториях и кабинетах сторожа неторопливо полощут пробирки, реторты и колбы. В просторном зале прибирают и устанавливают в штативах рапиры, сабли, шпаги и эспадроны.
— Ге-ге, Отто! Что ты скажешь о нашем Эрихе?..
К речонке, вниз по главной улице, все еще шествовали разряженные, кружевные, декольтированные гости. Но шума не было, и струйки табачного дыма на балконах тихо взбирались по гладким стенам.
— Как мирно, как бесконечно мирно, — проговорил Курт.
Он шел с непокрытой головой, медленно, любовно оглядывая каждый уголок, точно отыскивал что-то давно утраченное и родное. Андрей молчал.
Ни одна прогулка из тех, что совершили наши друзья за годы, которые предстояли им, не была столь добровольна и бесцельна, как путешествие в Эрланген. Вот почему мы не торопимся забегать [83] вперед и радостно идем шаг за шагом по улице, в конец города, через мост, и дальше — в гору, покрытую частой рощею. Кто знает, может быть, эта прогулка — последний отдых, полней которого — одна смерть?
Гора, увязанная — как голова платком — липовой, березовой, кленовой чащей, кружилась в живой воронке звуков. Звуки толклись на месте, метались из стороны в сторону, извивались змеями вокруг деревьев, стлались под ногами. Здесь были все инструменты, придуманные Востоком и Западом, сделанные кустарем и фабрикой, автоматические, духовые, струнные и ударные. И они свистели, бубнили, гудели, трещали, пели, вопили все сразу и ни на минуту не переставая. Все оперетки и оперы, мазурки и вальсы, марши и галопы, сочиненные когда-нибудь на свете, не считая торжественных ораторий, печальных кантат, рапсодий, менуэтов, полонезов и песен, — все эти классы, виды и роды музыкальных сочинений, во всех тонах и всех темпах, известных животному миру и органным фабрикам, — все они с величайшим старанием и неправдоподобным фортиссимо пыжились заявить о себе здесь, на этой горе, покрытой, как платком, липовой, кленовой чащей.
И гора кружилась, кружилась.
На вершине ее, в длину аллей, кучились балаганы, будки, лавчонки, карусели, паноптикумы, панорамы, кино, гипнотические кабинеты, перекидные качели, тиры со стрельбою в цель, силомерные и спортивные залы, киоски с предсказателями судьбы и гроты с гадальщицами. Каждый человек на этом гулянье был вбит в толпу, как пыж в патрон, и непрекословно довольствовался тем, что мог вертеть головой во все стороны. [84]
— Прекраснейшие дамы, почтеннейшие господа! Я призываю вас к нечеловеческому усилию: остановиться передо мною всего на две минуты. Усилие должно быть сделано, чтобы задержать натиск тех баранов, которые стремятся занять ваши места. Вы не захотите уступить своего места баранам, почтенные господа! Одна минута внимания. Перед вами — подтяжки, скромный вид которых приводит в уныние простаков и деревенщину. Но мы знаем, что истинная добродетель всегда скромна. Смотрите, я тяну изо всех сил эти подтяжки, я рву их, я раздираю их зубами, как лев из гамбургского зоо, я вяжу из них узлы, я рублю их топором, вот — ак, аак, гак! — я подымаю на них гирю в двадцать пять кило! Смотрите — они становятся только эластичней, мягче и приятней, ничуть не изменяя своего цвета, своей прочности и привлекательности. Подождите, подождите! Я кладу их в воду, я намыливаю, их, я тру их щеткой...
— Сюда, сюда, сударыня! Вот зонт, который призван защитить вашу бесподобную кожу от солнечного зноя. Попробуем полить его водой, попробуем вывернуть его наизнанку, попробуем сломать его ручку или проткнуть его пальцем — безуспешно! Из такого шелка Наполеон великий сшил платье своей второй жене — своей любимой жене, как это установила историческая наука. Если свернуть этот зонт умелой рукой, то он станет тонок, как швейная иголка, сквозь ушко которой верблюд вошел в царство небесное. Если бы его увидела ваша бабушка, не верблюдица, конечно...