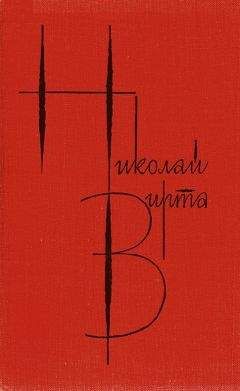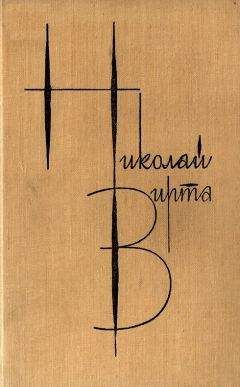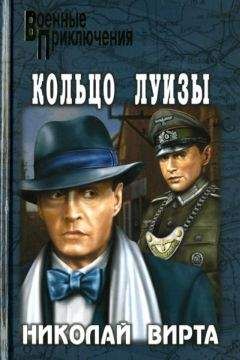Николай Вирта - Одиночество
— Роди, роди, мать, больше, — говорил Петр Иванович жене. — Эк ты у меня какая гладкая!.. Роди сынов — работников. С голоду в старости не помрем. У кого-нибудь угол сыщем.
Рожала Прасковья быстро, с какой-то грозной поспешностью.
— Точно пули вылетают, — смеялся Петр Иванович. — Ну и силища у тебя, мать, в нутре.
А вот Колька трудно рожался. Прасковья лежала посиневшая, широко раскрыв глаза, страдальчески вздрагивали губы, и тело извивалось в страшных муках.
Оттого ли, что пал духом Петр Иванович, оттого ли, что дрожало что-то внутри за жену, только когда Колька с пронзительным криком, ослепленный холодным, блистающим декабрьским днем, вышел из материнского чрева, Сторожев забыл сказать обычные слова о новом работнике, и впервые настоящей отцовской радостью наполнилось его сердце.
Угрюм был Петр Иванович дома, угрюм и молчалив. Лишь один Колька синими глазами и безмятежным смехом скрашивал молчаливые дни отца. Он залезал порой к отцу на колени, щекотал неуклюжей ласковой ручонкой его щеки, захлебываясь, смеялся, когда отец донимал его колючими усами. Он был, как котенок, мягкий, ласковый. Подойдет, бывало, к отцу, запрокинет голову — и вот гляди не наглядишься в его синие глаза: так там безмятежно и тихо, как в лесной заводи, куда не забираются ни ветер, ни буря, где лишь светит солнце и кивают вверху зелеными гривами деревья.
Почему-то больше всех любил Колька батрака. И Лешка любил Кольку, возился с ним, выучил ездить верхом на лошади, и в четыре года мальчишка, ухватившись за гриву, скакал на ней, и она словно понимала, кто сжимает ее бока хрупкими маленькими ножонками. Быть может, зная об этой любви, Сторожев и не прогнал со двора Лешку, когда услышал, что брат его Листрат подался к большевикам.
И Лешка не ушел от Сторожева, словно ничего не случилось, словно бы все шло по-старому. По-прежнему работал он за троих, был весел, слонялся по улицам, загонял девчат в ометы.
Сторожев знал о Лешкиной удали, грозил ему пальцем:
— Ой, изобьют тебя, сукина сына, бабника!
— Куда изобьют, — гоготал Лешка, — сами просятся.
Петр Иванович плевался и отходил, злобно ворча:
— Бес чертов, озорник, гуляка!
После прихода большевиков Петр Иванович все хозяйство поручил Лешке и Андриану — деверю.
Седой Андриан целый день бурчал что-то себе под нос; Лешка ходил по двору, распевая песни, а Петр Иванович сидел дома в переднем углу на лавке, положив на стол тяжелые ладони, и читал, перечитывал библию, все искал осуждения новым делам и порядкам.
— Вот, — говорил он, — пишет пророк: царствовать им полтора года, а потом придет князь Михаил и погонит их. Вот те и Михаил! Он хоть и Романов, хоть и выродок, да пес с ним, все лучше, чем Серега-братец.
Он никуда не ходил, кроме церкви, с братьями не здоровался, с сыновьями был резок и груб.
И, кроме Кольки, никто его не любил.
3Сергей Иванович побыл в селе недолго, поддал бедноту, выгреб у тех, кто побогаче, хлеб, а тут на Советы навалились белые генералы. Надел Матрос бушлат, бескозырку с лентами, на прощанье зашел к Петру.
— Ты, брат, на меня не сердись, — начал он. Сторожев даже глазом не повел. — Я думал, когда книжечки тебе возил, что по моей дорожке пойдешь, а ты вон как, в помещики вышел, в Учредительное собрание попер. Ну, ладно! Только смотри, Петр, как родному советую: переломи себя, а то нам ломать вас придется. Больно будет. — И вышел.
Петр Иванович ничего Матросу на прощанье не сказал, лишь нахмурил брови и хрустнул суставами пальцев.
К осени восемнадцатого года снова ожил: услышал, что где-то поднялся генерал Краснов, шел напролом и близко подошел к Тамбовщине.
Так нет, черт побери, разбили большевики генерала!
Потом пришел в село Листрат Григорьевич — Лешкин брат. Принес он со службы винтовку и пустой сундук. Однажды утром Андриан увидел, как Листрат отгибал топором гвозди, которыми были забиты двери и окна конторы кредитного общества.
— Ты чего это делаешь? — спросил он.
— А вот обосноваться хочу. Красная гвардия это помещение занимает. Чуешь?
— Чую-то чую, да только гвардии не вижу. Вижу: стоит Листратка, а гвардии будто и нет.
Листрат пригласил Андриана присесть, вынул кисет, закурил.
Листрат — парень загляденье: невысокий, глаза голубые, зубы как кость, отмытая дождем, усы шелковые, светлые, сам ладный, крепкий и улыбка широкая, приветливая.
— Ну, как братана моего Лешку содержите?
— А чего ему делается! Работает! — Андриан закашлялся. — Вот так табачок у гвардии!
Листрат засмеялся.
— Когда же гвардия ваша соберется? — спросил Андриан.
— Вот погоди, набегут.
4Однажды сидел Сторожев на крылечке. Листрат шел мимо.
— Здорово! — поклонился Листрат Петру Ивановичу.
Сторожев неохотно приподнял фуражку.
— Ну как, отвоевались? — спросил он у Листрата.
— Отвоевались, — ответил Листрат и присел на ступеньку.
«Ишь, расселся, — подумал Сторожев. — Проходил бы с богом».
— Надоело, Петр Иванович, воевать! Ну, Краснова — это туда-сюда, этого я с удовольствием бил…
— Генералов побили, за мужика принялись? Гвардия! Как разбойники на большой дороге народ грабите!
— Да мы не грабим, — заметил Листрат, — мы вашего брата приучаем к себе. Мы ведь теперь в хозяевах.
— Ну, прощай! — грубо сказал Сторожев. — Нам с тобой говорить после обеда надо.
— Прощай! — ответил Листрат. — Ты, смотри, не вздумай мукой торговать, поймаю — по шее надаю. Да брата не тронь — голову сверну за Лешку!
Злоба бушевала в сердце Петра Ивановича. Ему уже не терпелось расправиться с этой нищей силой, вдруг поднявшейся из глубин жизни.
5Ушел Листрат с гвардией из села быстро: слух пролетел — Деникин идет на Москву.
В августе девятнадцатого года через село проходил казачий отряд генерала Мамонтова; начальник остановился у попа.
Петр Иванович, узнав о приходе казаков, приоделся, причесался и пошел к священнику — друзьями были.
Отец Степан, маленький, седенький, хитрющий попик, притворился испуганным. Он ничего не мог рассказать сухощавому офицеру; моментально вдруг забыл поп, сколько верст до Грязного и как проехать на Ключевку.
— Вот, прошу вас, — засуетился он, обрадовавшись приходу Сторожева, — наш прихожанин, член Учредительного собрания, уважаемый человек.
Офицер быстрым взглядом осмотрел Сторожева с ног до головы и стал расспрашивать о сельских делах, о дороге, о красных.
— Дозвольте узнать, если не секрет, вы какой армии будете? — спросил в конце разговора Сторожев.
— Конной, генерала Мамонтова, — скупо ответил офицер и стал собираться.
— Очень рады, — тихо заметил Петр Иванович. — Значит, конец большевикам?
— Возможно, — протянул офицер, выходя из дома, — весьма-с возможно-с! — и вскочил в седло.
Отряд проходил по пустынному, точно вымершему селу.
«Доблестные войска были встречены хлебом и солью… — горько подумал офицер и дал коню шпоры. — Даже поп крутил лисьим хвостом! Мерзавцы!»
Петр Иванович распорядился собираться на загон близ Лебяжьего озера и пахать его под зябь. Он снова гоголем ходил по селу, отобрал своих лошадей, овец, вывез из сельского амбара все зерно, что взяли у него, — фунт в фунт. А спустя месяц вернулись коммунисты — Мамонтова разбили: бежал генерал от красных сломя голову.
Снова взяли у Сторожева овец, зерно, увели лошадей да еще посадить пригрозили: дай, дескать, только с делами управиться, мы тебе…
Петр Иванович рвал и метал, а ничего не поделаешь: сиди молчи, думай, собирай лоб в морщины… Тут-то и приехал к нему из Кирсановских лесов, из далекого озерного края человек от Антонова; было это в январе, только что расчинался бурный двадцатый год.
Глава пятая
Огорожен долго говорил с посланцем Антонова в риге, проводил его задами на дорогу, потом приказал Алешке на завтра к полудню приготовить лошадей.
— Куда поедем?
— На кудыкино поле! — зарычал свирепо Сторожев. — Твое дело лошадей готовить, а мое дело плановать, куда ехать.
«Эка злющий какой! — подумал Лешка. — Только и знает брехать! Черт седой!»
Лешка с сожалением вспомнил, как Листрат звал его с собой в Царицын, а Лешка не захотел ехать — привык к селу, к Петру Ивановичу, привык гулять до поздней ночи с девками, забираться с ребятами в поповский сад, трясти яблоки, ползать во тьме на коленях, собирать сочные, спелые наливы. Но была у Лешки еще одна причина — водилась у него зазноба, звали ее Наташей Баевой.
Приглядел парень девку, да зря охаживал. Ходить ходит, и гармонь слушает, в обнимку сидит, и целоваться охотница, а в омет — шалишь! Блюдет себя.