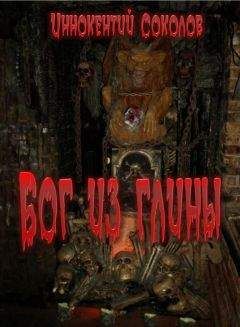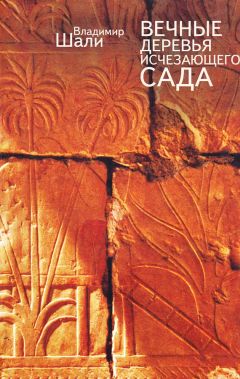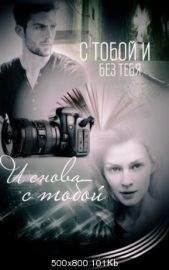Александр Серафимович - Том 3. Рассказы 1906–1910
Охватила знакомая усталость, истома, хотелось забраться под одеяло, свернуться калачиком и, жуя резиновую колбасу, прислушаться, о чем там говорят, что читают. Боже мой! Быть может, и было настоящее – эта маленькая комнатка, эта скрипучая кровать, эта лампа, тонко светившаяся щелями перегородка, откуда шли такие странные, непонятные слова и мысли, – странные и непонятные, и такие дорогие и близкие в своей непонятности, будящие что-то глубоко залегающее в душе и раскрывающее иной – огромный, скрытый от него смысл.
О, он отдал бы половину жизни, отдал бы правую руку, глаз, отдал бы десять лет своего здоровья, только бы его пустили заглянуть за эту перегородку, тонкую и сквозившую, откуда доходили обрывки мыслей и понимания, кусочки того огромного мира, которого он был лишен.
Жгучая, острая тоска, от которой сохнут просящиеся на глаза слезы, холодно и спокойно свернулась клубком и спокойно глядела ему в глаза, – тоска не потому, что погиб, что нет возврата, что оказался подлецом, что товарищ несет свою неповинную голову, а потому, что целый мир, огромный мир прошел для него недоступным, потому что – он чувствует – никогда не узнает всю важность цветных теней, никогда не поймет, что общего между богом и трупом, никогда не осмыслит, о чем говорили ворон и орел.
Он прислушался. Там было тихо. Щели не золотились. Было тихо в комнате, в доме; стояла тишина на улице, неподвижна и молчалива была ночь.
И отдаваясь щемящей, хватающей за сердце боли и тоске, он хрустнул пальцами, потом вдруг потух, опустился, под глазами проступили синяки. Усталость, непобедимая и давящая, отнимающая волю, сознание, способность сопротивляться, охватила всего. Сел к столу и набросал несколько строк. Порвал. Снова набросал и Опять порвал, положил ручку. Прислушался к молчанию, к тупой и неподвижной тишине, полной всюду разлитой, неодолимой усталости.
Потом взял табурет, приставил к перегородке, влез на него, попробовал руками торчавший крюк, захлестнул за него шнурком от занавеси, сделал петлю, надел на шею, поправил и, придерживаясь за стенку руками, стал сталкивать ногами табурет. Когда табурет, наклонившись, стал падать, Ментиков с нечеловеческими усилиями и безумным ужасом попытался его удержать.
«Ведь вся жизнь, прекрасная жизнь впереди… Все можно поправить!..»
Но табурет со стуком опрокинулся, Ментиков тяжело повис, подёргался немного, высунул вздувшийся язык, широко и изумленно раскрыл глаза, тихо перекрутился и успокоился.
Чуть подрагивая, горела свеча. На черных стеклах изредка появлялись капли дождя.
Утром власти, делая осмотр, подняли разрозненные клочки бумаги и, подобрав, сложили на столе:
«…т… л…сп… тать… стоящую ж… зн…»…
Оцененная голова*
– Так едешь?
– Еду.
Они курили, в промежутках прихлебывая густой застывший чай. Лампа из-под абажура низко и желто освещала разбросанные газеты, рукописи, книги, перевесившиеся через стул штаны, а выше абажура ровная пепельная тень поглощала незатейливую обстановку полустуденческой комнаты.
Молчал потухший самовар.
– Тебя всюду ищут.
– Знаю.
– Твоя голова оценена.
– Знаю.
Хозяин с рыжей бородкой, в синей суконной, без пояса, рубахе, прошелся из угла в угол, сильно затягиваясь. Подошел к столу и ткнул в зашуршавший листок:
– «…Из достоверных источников мы получили сведение, что за поимку товарища Богуна правительство назначило три тысячи рублей…»
Гость усмехнулся и погладил небольшую, но густую и окладистую черную бороду:
– Дешево… Я думал, дороже стою.
Ничего не было замечательного в этой трехтысяче-рублевой фигуре, но все в нем было удивительно пропорционально. Грудь, плечи, руки, ноги – все было в меру, все было полно живой, упругой, сдержанно сквозившей в каждом движении силой. Лицо некрасивое; но злое добродушие, державшееся постоянной улыбкой в углах глаз, смягчало его.
– На юге снова провалы, – заговорил он деловым тоном, как бы желая сказать, что разговор на прежнюю тему исчерпан, – одного не понимаю, зачем эта кислятина, эти студни лезут в дело?.. Для того, чтоб фигурировать в статистике арестов?
– Милый мой, точно высчитано: средняя продолжительность работы – два месяца.
Богун быстро, упруго поднялся.
– А я тебе говорю, а я тебе говорю, – смягчавшая его лицо постоянная скептическая улыбка в углах глаз пропала, и жестокостью, холодной и непреклонной, веяло от этих резко определенных черт, – я тебе говорю: «Через шесть месяцев правительство назначит за мою голову шесть тысяч».
Хозяин покачал головой. В соседней комнате укачивали ребенка, и мерно и неясно доносилось: «Аа-аа-аа»… и поскрипывали кольца колыбели. Не отводя глаз, черно глядела темнота в стекла.
Богун ходил, заложив руки за спину, и думал…
– Наконец, если ты так скучаешь по семье, – проговорил хозяин, вертя над лампой потухшую папиросу, – так лучше выписать ее в какое-нибудь укромное место, куда и ты приедешь и поживешь. Ведь уж за твоей квартирой неослабно следят.
– То-то, что не скучаю, – усмехнулся Богун, продолжая ходить, – я уехал от них два года назад… Жена… Жену я… люблю, – проговорил он с расстановкой, как бы решая сам для себя этот вопрос и приглядываясь к воспоминаниям прошлого, – да… откровенно сказать, меня и не тянет туда… Жена как жена, хорошая женщина… Девочку я оставил крохотной, ей было около трех лет… я даже себе не представляю, что она теперь такое, ну… Нашему брату насчет семейной жизни… не до того… некогда, брат…
Помолчали. Все поскрипывали кольца, и мерно, как маятник, усыпляюще доносилось: «Аа-аа-аа»…
– Тогда! я тебя не понимаю…
– И все-таки я поеду, – проговорил Богун, и добродушно-злая усмешка сбежала с лица, и было оно жестко, сурово и непреклонно. – Не понимаешь? Ну, просто… просто встряхнуться хочу…
– Ну-у, голубчик, – протянул хозяин, – имеешь ли ты право распоряжаться так собой? Ты принадлежишь партии, а не себе, ты должен считаться только с интересами парттаи, а не с своими капризами, и во имя партийной этики тебя всегда осудят.
Надменно зазвучал голос Богуна;
– У меня петля на шее, и рано или поздно я в ней повисну, а этого для удовольствия не делают, но никому никогда я не принадлежал, никому никогда я никаких обязательств не давал…
И, вдруг остановившись, насмешливо-злобно бросил:
– Этика… партийная этика!.. Я сам себе этика!..
IIБогун всегда спал крепким, глубоким и в то же время чутким в одном направлении сном, каким спят моряки. Грохот и шум, стоявшие кругом, его нисколько не беспокоили и не нарушали безмятежности сна, но присутствие нового человека, хотя бы он сидел тихо, не шевелясь, пробегало моментально, как электрическая искра…
И сейчас Богун вдруг почувствовал знакомое беспокойство, и первое, что он ощутил, среди гула и тряски вагона, это – присутствие человека, которого раньше тут не было; Сквозь слегка приоткрытые ресницы, при зачинающемся утре, он увидел большие красные руки на коленях, огромное тело, большое, лошадиное лицо и внимательные бесцветно-водяные глаза. Из-под белобрысых бровей они неподвижно глядели на Богуна, не моргая голыми, без ресниц, веками. И было в этом внимательном взгляде водяных глаз что-то холодное и непредотвратимое.
Богун, медленно позевывая, открыл глаза, как бы не замечая визави. И сейчас же голые, без ресниц, веки сомкнулись под белобрысыми бровями, и большое тело колыхалось от тряски на скамье сонно и лениво.
«А-а, голубчик!»
Богун почесал переносицу, как бы соображая, спать ему еще или довольно, глянул на мелькающую в окне сырую, осеннюю чернуюземлю и оглядел вагон: все так же в пыльном табачном дыму покачивались все те же фигуры пассажиров.
– Али женился? – слышалось сквозь дым и гул качающегося вагона.
– Женился… высокая да длинная…
– Вот не люблю, как высокая да тонкая.
– Тонкая да ухи большие, страсть не люблю.
– А по мне абы баба, в хозяйстве все одно.
– Дозвольте чайничек…
Богун бегло взглянул на него: все та же покачивающаяся массивная фигура, огромные руки на коленях и неподвижно затянутые облезлыми веками глаза. Но и сквозь веки, казалось, он глядел все тем же внимательным, бесцветным, водяным взглядом.
Богун захотел проверить: прислонился в угол и, чувствуя тряску вагонной стенки, закрыл глаза, осторожно глядя сквозь ресницы. И тогда тихонько поднялись голые веки, и бесцветные, водяные глаза снова, не моргая, неподвижно глядели на него, упорно, внимательно, разглядывая каждую линию, каждую черту лица.
«Да, это – он… Сомнений нет», – думал Богун, и ощущение злой усмешки проползло у него в душе. И тогда Богун смело и прямо глянул в глаза. Тот было закрыл, но сейчас же поднял веки и тоже глянул прямо и упорно, – нечего было скрывать, они поняли друг друга. Так с секунду глядели друг на друга два человека, потом спокойно перевели глаза и стали глядеть в окно на убегающую влажную землю, постоянно чувствуя друг друга, постоянно чувствуя завязавшийся узел жизни и смерти.