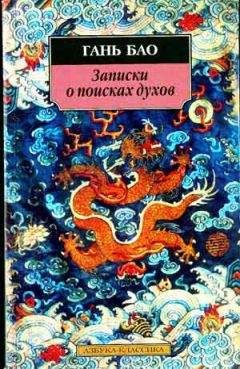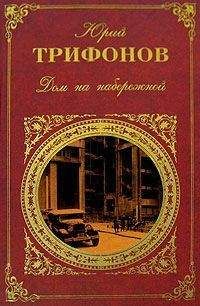Борис Полевой - До Берлина - 896 километров
История этих двух с неба, с которой я познакомился у инженер-майора, действовала успокаивающе. Нашли же эти два русских парня общий язык с поляками, вон какие дела делали. А мои спутники, молодые русские, украинские и словацкие ребята, должно быть, вовсе не испытывают никакой тревоги, сидят на скамейках, как на деревенской посиделке, друг против друга и кричат песни, как бы прикуривая их одну от другой.
Я стал даже дремать, но вдруг какая-то сила сорвала меня со скамейки, бросила на пол. Самолет дал резкий крен на крутом развороте. Потом меня перекатило в другую сторону. Я понял, он маневрирует, и, подобравшись к иллюминатору, увидел, как внизу вспыхивают красивые огоньки и, будто разноцветные елочные бусы, к машине тянутся огни трасс. "Зенитный заградительный огонь", — догадался я, когда весь этот фейерверк остался позади и внизу обозначились темные контуры гор, облитых лунным светом.
Вскоре самолет стал давать большие круги, и мы увидели, как в кабине, наклонившись друг к другу, что-то горячо обсуждают пилот, штурман и командир десанта. Догадался: мы вышли уже к месту выброса, а сигнала с земли не дают. Бывалые ребята тоже поняли это, поднялись, разминаются, проверяют ремни. Облаченные в зеленые комбинезоны, немножко, как водится, хлебнувшие для храбрости, в эти минуты они выглядят несколько торжественно, легко стоят под грузом своих удобных заплечных мешков. И вдруг один из них запевает столь дорогую мне с некоторых пор песню:
Дивлюсь я на небо, тай думку гадаю,
Чому я не сокил, чому не летаю…
Летят, летят соколы. Летят, покинув землю, в небе, над чужим, незнакомым краем. Им сейчас прыгать, а они вот, надо же, поют. Таковы уж украинцы в любой ситуации, А может, и поют, чтобы скрыть вполне естественное волнение, ведь как-никак приземляться придется на чужой земле, да еще в горах. А словаки наши как приникли к иллюминаторам, когда самолет был обстрелян зенитками, так и не отрывают глаз от земли, что кружится теперь под нами, изредка указывая друг другу на какие-то мерцающие внизу огоньки.
Когда в самолете зажигается зеленая лампочка и в открытый десантный люк с ревом врывается холодный сырой воздух, приходится преодолевать тот психический барьер, который известен, вероятно, и самым опытным парашютистам. Встаю посередине очереди. Тоже поправил ремни заплечного мешка и, театрально крутнув ус, зажмурившись, шагнул в грохочущую пропасть, хотя, честно говоря, душа уже ушла в пятки.
Нет, кажется, все в порядке. Сильный рывок. Хлопок. Легкое покачивание на ветру. Прыгнул благополучно и самодовольно вспомнил слова генерала Свободы: опустишься в Чехословакию, как ангел с неба. Но на этом и кончается ангельский полет. Начинается серия глупейших, дьявольских приключений. Где-то уже у земли, когда я изготовился к тому, чтобы по инструкции спружинить у земли и повалиться на бок, падение внезапно прерывается. Я повис, беспомощно болтая в воздухе ногами. От резкого рывка заплечный мешок срывается и летит куда-то вниз вместе с фотоаппаратом. Что такое? Когда испуг проходит, начинаю понимать, что парашют накрыл верхушку какого-то дерева, а я беспомощно болтаюсь на неизвестной мне высоте и не могу ничего разглядеть из-за тумана. Дерево пружинит, тихо раскачивает меня, и воображение, разумеется, рисует внизу обрыв, пропасть, скалы, горный поток.
А главное, ведь ничего не сделаешь. Даже штурмовой нож, который я не сунул за голенище, как это сделали перед прыжком другие, оторвался от пояса и исчез.
Однако сколько же можно вот так висеть? Наверное, где-то уже взвились зеленые ракеты и командир, опытный десантник, уже собирает своих людей. Тут приходит на ум: зажигалка. Комический фильм продолжает крутиться. Дрожащей рукой я достаю из кармана зажигалку и начинаю пережигать стропы. Одну за другой. Ох, и крепки же эти тоненькие веревочки, всего две осталось. а держат. Вот тлеют последние. Зажмуриваюсь, поджимаюсь в комок и… Когда перегорела последняя стропа и я освободился от парашюта, большого толчка не последовало. Оказывается, я болтался над самой землей. И опять не повезло: хотя под ногами был сырой мягкий мох, ухитрился-таки поскользнуться и как-то не то вывихнуть, не то растянуть ногу. Словом, понял: ползти еще смогу, а идти — нет. Встать на ноги невозможно.
А между тем начало светать. Первые солнечные лучи скользнули по верхушкам зеленых, красивых гор; набрякшая в тумане листва сочно зазеленела, и я увидел горную лесосеку, штабеля свежесрубленных и уже обтесанных бревен. Шалаш. И у шалаша человек.
Вот тут-то я убедился, сколь правы были генерал Свобода и люди из его корпуса в оптимистических предсказаниях. Первый увиденный мною словак оказался другом, да каким еще другом!
Подойдя ко мне, он спросил по-словацки:
— Кто си? Руски? Ё?.. Ты си достойник? Откуду си? З неба? Ё?
Я убедился, что действительно понял каждое его слово, а он понял мои ответы.
Это был невысокий, коренастый, жилистый человек лет шестидесяти. Лесоруб. В эту ночь он спал в шалаше на лесосеке, слышал, как в небе кружился ваш самолет, видел зеленые ракеты, видел, как я опускался и застрял на дереве. Он подобрал мои пожитки, а потом без особых, разговоров посадил меня "на кошла" и понес по извилистой дорожке куда-то вниз. Я доверился этому человеку, от которого так вкусно пахло сосновой смолой, хлебом, крепким мужицким потом, так доверился, что даже и не стал уточнять, куда, собственно, он меня несет.
А он принес в живописную деревеньку, расположившуюся по крутым склонам лесистого распадка вдоль говорливой горной речушки. Деревня называлась Балажа. Но в дом он меня не понес, а ссадил возле большого сарая, где сушились бруски древесины, помог забраться по лестнице на антресоль, притащил вязанку свежей соломы. Через некоторое время принес еды и криночку какого-то напитка, по его уверениям, обладавшего целебным свойством. Лесорубы лечат этим напитком все недуги: и простуды, и ревматизм, и такие вот, как у меня, нелепые травмы.
Это был горячий сливовый самогон, наполовину разбавленный топленым бараньим салом — и выпивка и закуска одновременно. Не знаю уж, от этого ли универсального средства или от черной вонючей мази, которой приглашенная ко, мне старуха ведунья смазала мою ногу, но боль ослабла и даже опухоль вроде бы стала меньше. Потом мой спаситель, как все его называли, старчку Милан, неведомо какими путями связался с нашими десантниками из другой группы, высадившейся раньше нас, добыл для меня фельдшера, а через день на какой-то желтой бричке, похожей на ту, на какой ездил Чичиков, меня отвезли в штаб десантников.
При расставании с деревней Балажей произошел эпизод, который мне никогда не забыть. Я уже поднимаюсь, хожу с палочкой, но узкий офицерский сапог не лезет на поврежденную ногу. И вот перед отъездом старчку Милан принес вместо моих щегольских, с бутылочными голенищами и совершенно негодных для партизанского бытия сапог свои, широченные, просторные, с подошвой толщиной с палец. Это были праздничные его сапоги. Перед тем как мне их дать, старчку Милан стер с них рукавом пыль.
Несколько дней, проведенных мной на чердаке древосушилки, беседы со старчку Миланом, со старухой ведуньей, с какими-то парнями, которые, как говорил Милан, не сегодня-завтра уходят в партизаны, укрепили во мне чувство, что мы действительно в очень дружественной стране, что тут с волнением следят за передвижением войск Первого Украинского фронта, слушают наши передачи, со дня на день ждут Красную Армию, которая освободит их от ненавистных гитлеровцев.
Встреча с земляком
Готовясь к полету, я хотя по-репортерски бегло, однако все-таки изучил обстановку, создавшуюся в Словакии. Но для меня совершенной неожиданностью оказалось, что в горной стране этой, в ее разных концах, и особенно в Средних Татрах, действует уже несколько партизанских отрядов, и не только словацких, но интернациональных, а в иных из них сражаются и русские, и украинцы, и французы, и бельгийцы, и поляки, и англичане, даже американцы (среди них один негр) и даже немцы-антифашисты. Большинство из них попали сюда в горы, бежав из концентрационных лагерей, с принудительных работ, так что каждый имеет с Гитлером помимо общественных и свои личные счеты.
Большой радостью было для меня, что среди них оказался мой старый друг и полный тезка подполковник Борис Николаевич Николаев, наш тверяк, с которым мы дружили еще на Калининском фронте. Что он тут делает, я, разумеется, не уточнял. Но он, как всегда, незаметно и тихо делал здесь какие-то свои, по-видимому, важные и таинственные дела. Два земляка обнялись, расцеловались, и он, отлично изучивший обстановку, рассказал мне, что где-то тут, в Западной Словакии, руководит интернациональным отрядом еще один наш земляк, по фамилии Горелкин, парень с Пролетарки, с фабрики, на которой и я начинал свой трудовой путь.