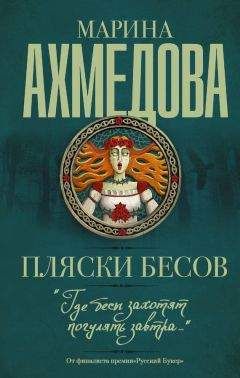Евгений Пермяк - Старая ведьма
Может быть, и нам следует согласиться с Весниным и Юдиным? Но не будем ничего предрешать в первой четверти романа. Посмотрим, увидим и сделаем свои выводы. Тесто пока еще только замешено, и трудно гадать, каким калачом оно выпечется.
XVII
Лидочка, подоив коз, задавала корм свиньям. Ожеганова и Аркадий Михайлович беседовали в саду. Серафима Григорьевна только что проводила Панфиловну и поспешно прятала что-то в карман юбки. Наверно, деньги.
— Кто эта божья старушка? — спросил Баранов.
— Бедняжка одна. Панфиловна. Умереть ей не даю. Помогаю. То лучку настригу, то редисочки надергаю. Продаст — глядишь, и деньги…
— Да, конечно, конечно… Самой-то вам не к лицу торговать. Все знают Василия Петровича Киреева, а с ним и вас. Разговоры пойдут…
— А какие же могут быть разговоры? Не ворованное, а своими руками выращенное продаю и Панфиловне жить даю. Подоходный налог и ренту мы платим самым исправным образом. А кроме этого, я — это я. А Василий Петрович остается Василием Петровичем. Не могу же я на его шее сидеть. Вот и добываю своими руками себе на пропитание.
Опять встретились глаза Ожегановой и Баранова. Теперь эти глаза отчетливее говорили о неприязни друг к другу.
— Гостили бы вы и гостили, — прервала короткое молчание Серафима Григорьевна. — Зачем вам во время отпуска утруждать себя тяготами нашей трудовой жизни? У всякого хоря своя нора, у всякой сороки свой норов.
Послышался голос Лиды. Она просила ключи от кладовки. Ей нужно было приготовить кормовую смесь курам.
— Лови! — крикнула Серафима Григорьевна и бросила ключи.
— Трудовая дочурка растет у Василия, — сказал Баранов. — И коз доить, и свиней кормить… все умеет.
Баранову хотелось знать, как вывернется Ожеганова. И она вдруг действительно сделала весьма неожиданный ход:
— Ну так ведь, Аркадий Михайлович, зачем-то мы выписываем газеты. Читаем по силе возможности. И радио слушаем. Понимаем, что такое связь школы с жизнью и трудовое воспитание… Не даем заплесневеть девочке. Хотим, чтобы из нее хороший человек вырос. И народу своему хороший помощник, и партии нашей на радость…
О-о-о! Не так проста Серафима Григорьевна…
Баранову не хотелось больше разговаривать с нею, и он пошел бродить по участку.
Участок был засажен с такой расчетливостью, что не оставалось ни одного пустовавшего клочка. Даже у забора рос лук-батун и ревень. На широких огородных грядах с узкими, тоже экономными, бороздами Баранов не заметил обычных огородных растений, если не считать редиски, дающей несколько урожаев в году и, видимо, имеющей хороший спрос. Не было ни бобов, ни гороха, ни свеклы и ни любимейшего Аркадием Михайловичем огородного десерта — репы. В огороде густо росли цветы. Росли, подобно луку, чесноку, моркови, подобно укропу.
Никогда еще не видел Баранов цветы на грядах. В этом было что-то оскорбительное для обитателей оранжерей, клумб и газонов. Значит, и цветы росли не для радости семьи, а для наживы.
И крыжовник, посаженный тоже довольно густо, явно рос для этих же целей. Многие из его ветвей были пришпилены сучками-рогатками к почве и, окоренившись, дали маленькие дочерние кустики. Их было тоже очень много. И они, конечно, готовились не для расширения своего сада, а для продажи.
Ожеганова, следившая за Барановым, подошла к нему и, расплывшись в улыбке, сказала:
— Вы прямо как инспектор по качеству. Видать, вы, Аркадий Михайлович, большой любитель растений?
— Да, я очень люблю растения. Очень люблю. И так сожалею, что у вас нет такой близкой моему сердцу картошечки, нет моркови, свеклы…
Теперь Ожеганова отвечала прямо:
— Зачем выращивать у себя то, что дешевле купить в лавке? Я о каждой гряде думаю и считаю это правильным. Коли уж заводить хозяйство, так чтобы оно чувствовалось, а так что же попусту руки на поливку вытягивать!
Но Баранов не стал отвечать прямотой на прямоту и называть все это тем словом, которое давно просилось сорваться с языка. Разговор дальше не пошел. Баранов смолчал, но, чтобы как-то проучить Ожеганову, он принялся рвать на грядах цветы, выбирая самые лучшие. Выбирал и приговаривал:
— Ну и букет же сегодня я подарю вашей внучке Лидочке! Ну и букет!..
Губы Ожегановой дернулись.
— Зачем же ей букет, когда она среди цветов живет?
— Одно — цветы на гряде, другое — в комнате букет, — возразил Баранов, продолжая нарочито энергично орудовать на грядах.
Серафиму Григорьевну слегка зазнобило. Но запретить рвать цветы было нельзя. В ее ушах стояли слова Василия о доме, который он может распилить, если этого захочет его друг Аркадий.
А тем временем Аркадий Михайлович рвал и рвал цветы. Букет уже не умещался в его руке. Сердце Серафимы Григорьевны наливалось злобой, но Баранов и не думал останавливаться.
И только после того, когда букет превратился в огромный цветочный сноп, он сказал:
— Наверное, уже хватит. Думаю, такой букет стоит никак не меньше пятидесяти рублей, а?
— Пятидесяти? И в семьдесят пять не уложишь, — процедила, стараясь улыбнуться, Серафима Григорьевна.
— Пожалуй, что и в семьдесят пять не уложишь, — согласился Баранов и, положив букет в борозду, достал бумажник, вынул из него сторублевку, подал ее Серафиме Григорьевне.
А та, запрятав руки за спину, словно боясь, что руки помимо ее воли возьмут деньги, закричала:
— Нет, нет, нет… Вы что?
— Да будет вам, — стал уговаривать ее Баранов. — Неужели вы думаете, что я буду преподносить дочери своего друга даровые цветы? Да что я, оккупант какой? Вы же их растили, выхаживали, пропалывали, а тут явился даритель за счет чужих рук… Берите, берите! Не ворованное же продаете, а кровное, свое.
Руки Серафимы Григорьевны дрогнули, затем появились из-за ее спины и потянулись к деньгам.
— Только уж если вы хотите по совести, так и я хочу, чтобы на моей совести обиды не оставалось. Пятьдесят рублей — и ни копейки больше!
— Семьдесят пять! — потребовал Баранов. — Я тоже не люблю, когда меня обижают.
— Извольте, — согласилась Ожеганова и полезла в карман своей широкой кашемировой юбки за сдачей. Она принялась отсчитывать двадцать пять рублей засаленными рублями, трехрублевками, принесенными Панфиловной.
Это уже было невыносимо для Баранова. Он не мог выдержать дальше этой сцены.
— Не надо сдачи. Рассчитаетесь потом — цветами. Это же не последний букет.
— Как вам будет угодно, Аркадий Михайлович, — сказала она, одаряя его уже не деланной, а настоящей, живой улыбкой неподдельной радости. — Пусть эти денежки пойдут на приданое Лидочке, — солгала она. Сто рублей канули в глубокий карман темно-синей юбки Ожегановой. А букет был водворен на косоногий столик в комнате на втором этаже, где жила Лидочка.
Баранов долго разглядывал лепестки цветов. Торопливое тиканье будильника напоминало, что время двигается. И время серьезное.
А в этом доме не чувствуется ни течения времени, ни большого дыхания жизни. Будто ничего не происходит в мире. Будто не здесь, не на этой уральской земле, упал сбитый самолет-шпион. А это было так недавно и так близко…
Близко, но за изгородью трех садов, соединенных в один. А то, что происходит за изгородью даже в ста шагах, происходит где-то за границей интересов людей, населяющих этот дом.
Газеты приходят сюда молча. Молча ложатся они в стопку на угловом столике. Молча дожидаются очереди стать оберткой или кульками для расфасовки ягод.
Все проходит мимо.
Где-то поднялась самая большая доменная печь в мире. О ней не знает даже Василий. Дом закрыл все. Завод. Край. Страну. И кажется, космос, где являются миру звездные чудеса нашей науки.
Черт возьми, как же мириться с этим мещанским стяжательским болотом?.. Не страшнее ли оно минного поля, где умирал Василий? Можно ли оставить его в этой трясине ложного семейного благополучия?..
Но спокойно, спокойно, Аркадий! Зыбкое болото не любит резких движений. Нужно ступать мягче, обдуманно и безошибочно…
Дай дням свое течение. Обходной путь иногда бывает самым коротким.
XVIII
Если трагическое не перемежается с комическим и наоборот, то не может получиться ни трагедии, ни комедии.
Трудно сказать, что преобладало в Серафиме Григорьевне, трагическое или комическое, когда она мысленно произносила страшные ругательства, адресованные добрейшим старикам Копейкиным.
Чем же вызвано это злобное кипение Серафимы Григорьевны? Что случилось?
Случилось нечто на первый взгляд не заслуживающее внимания. Но то, что произошло, потрясло Серафиму Григорьевну, как говорится, до основания. Дело в том, что почти вдвое снизился ежевечерний сбор яиц в курятнике. Серафима Григорьевна могла бы объяснить это тем, что куры, запертые в тесном вольере, лишены животных кормов — червей, личинок, гусениц. Об этом ясно говорится в книжках по птицеводству, которые читает Серафима Григорьевна. Можно было бы объяснить это все и жарой, которая тоже сказывается на курах. Но как объяснить то, что Копейкины выбрасывают яичную скорлупу в таком количестве, что Серафиме Григорьевне нетрудно было по этой скорлупе, добытой из помойной ямы, вычислить количество яиц, съедаемых стариками? Исследуя скорлупу, она установила, что Копейкины ежедневно съедают от четырех до шести яиц, сваренных вкрутую или в «в кошелек».