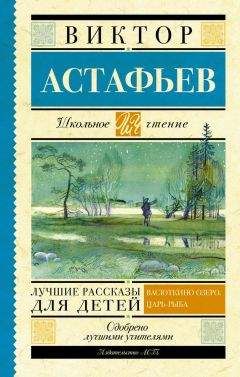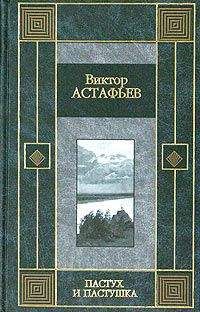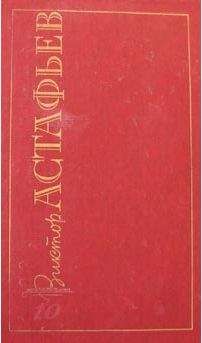Виктор Астафьев - Затеси
Один. Это уже стало законом и привычкой на наших фронтах сделалось: на связь, с донесением, за харчем, на пост — всюду боец-одиночка. Сдали в плен миллионы, положили в украинско-белорусских и русских полях многие армии наши доблестные полководцы, и вот теперь уже другим полководцам приходилось выкручиваться, экономить на всем, в том числе и на людях. На передовой солдаты вынуждены были работать один за пятерых, где и за десятерых. Изнурение, постоянная, до безразличия к смерти, усталость…
Редко выпадал нечаянный отдых. Вроде этого вот в укрепрайоне, в кроличьем царстве светлой осенью.
На этот раз я шел не с привычным карабином, а с недавно полученным автоматом через плечо, шел хорошо выспавшийся, легкий после бани, в выжаренном, постиранном, пусть и заношенном обмундировании.
Сентябрьское солнце к вечеру ласково грело, где-то на его закате отдаленно и привычно ухала война, крестики самолетов кружились и реяли над землей, словно неугомонные стрижи в предвечерье играли над рекой Вислокой. Походило на птичью игру, если бы не клубки зенитных разрывов, не белые строчки пулеметных очередей, полосующих голубой полог неба.
Но здесь, в заросшем и одичавшем селении, мир и покой, в глуби садов, перепутанных сохлыми ветвями и ломким бурьяном, виделись то яблоня, то груша, то слива. Еще способные рожать деревца бережно и застенчиво хранили редкие плоды на ветвях. Особенно заманчиво густились садовые кущи возле полувысохшего ручья, из которых при моем приближении с треском и шумом вылетела большая стая голубей и россыпью побежали во все стороны ожиревшие куропатки. Я хотел войти в кущи, нарвать яблок или кругло налитых, белых, переспелых слив, как вдруг почувствовал, что там, в глушине сада или по-за ним, в сумерках, успевших когда-то наступить, что-то или кто-то есть.
Нет-нет, не немцы, не военные, не лазутчики иль дезертиры, не паны, вернувшиеся домой, не наши солдаты, шакалящие по пустым избам и садам. Там есть тот или то, чего я боялся еще маленьким, страшась ввечеру идти один в баню или избу, пока в ней не засветят лампу. Оно, тот или то, водилось только по темным углам, в подполье, в подвале, в старых стенах кладовок, амбаров или на чердаках.
И вот оно объявилось в темнеющих зарослях заброшенного польского селения. Там в сгустившемся мороке чудится завалившаяся набок избушка, чья-то притаившаяся тень или старые кресты.
Смех сказать, боец, уже дважды раненный, черт-те чего навидавшийся и натерпевшийся на фронте, с полным, свежезаряженным диском в автомате, прирос к месту и не может сделать шагу. Всю спину скоробило страхом, в башке гул, сердце обмерло, едва шевелится. Чем дольше стоит он, боец этот бесшабашный девятнадцати лет от роду, тем страшнее ему, тем обморочнее его сознание.
Сдергивает автомат с плеча, сваливая весь страх с себя разом, вдруг заблажив не своим голосом что-то, застрочил в темень сада и побежал, на ходу не переставая давить на спуск автомата.
Сколько-то пробежал, остановился, держа перед собой автомат на пузе. Выпустил, и очень быстро, весь диск, это ведь в кино из них стреляют так, будто в диске ведро иль сундук патронов. Прислушался: ни криков, ни шума во вдалеке уже темнеющих зарослях не слышалось — могли ведь селяне там быть иль всюду проникающие добытчики-вояки по саду шариться, порешил бы кого — под трибунал угодил бы.
Но… тихо повсюду и еще не темно, еще сумерки продолжаются. Я миновал укрепрайон, вошел в лес — привычное дело, лес-то, тайга-то, где бы и водиться лешим, а ничего, все страхи позади. Переваливаю гору, за нею на поляне вольготно расположился штаб бригады. «Задание выполнено», — нарочно громко поору я, вернувшись, и — домой.
Но не скажу никому, чего было-то. Что за дурь? Что за помутнение рассудка?
Хотел обматерить себя, но в минуту страха, слабости духа и смирения я, как и многие русские солдаты, не употреблял бранных слов, уразумел я на войне, что в этой жизни, на этой земле есть силы превыше нашей власти и воли, они больше нас, дальше нас, и не мы ими, а они повелевают нами, они сложнее того, чем мы обладаем и что ощущаем, они за пределами нашего разума, который мы смеем называть могучим. В подсознании нашем хранится такая память, такое ощущение пространств и времен, что истовый атеист, комиссар в ремнях, отдаляясь от земного, бренного, разлепливая спекшиеся от крови губы, взывает к Боженьке, — это те чувства, те ощущения владеют им, над которыми он не властен, это дух Божий коснулся его души, открыл перед ним бездну — и он испугался бесконечности, отлетая в нее.
Не скажу, что с тех пор, с того фронтового времени и происшествия по пути в штаб бригады с донесением, я победил страх и перестал бояться того, что недоступно моему разумению, но уважать какую-то другую, помимо меня существующую, таинственную силу научился.
Много, много лет спустя потом, в тайге, возле каменистого распадка, заросшего чернолесьем, мелким сосняком, частым пихтачом на склонах да непролазными кустами понизу, выманивал я рябчика из зарослей. Сидел на сваленной бурею сосенке и насвистывал манком. Рябчик, поклевывая ягоды с рябины, звонко откликался из распадка, но ко мне не летел. У него внизу-то корму дополна: рябина, черемуха, смородина, жимолость, а понизу — черника, брусника, начинающая с боков краснеть, и прочая ягодная благодать, так за каким лядом ему лететь ко мне, в почти сквозной голый сосняк?
Я работал в ту пору в литейном цехе, отправлялся в тайгу сразу после ночной плавки, меня давила усталость, вело в сон. И вот отдалилось все, сделалось тихо-тихо, как при солнечном затмении. В какое-то блаженное забытье увело меня, и только начал я опускаться на дно этого блаженства, устланное мягким мохом, как услышал вдруг отчетливо и громко произнесенное:
— Парбы нет.
Я открыл глаза, поднял голову — кругом стояла до звона в голове явственная тишина, казалось, сумерки окутали тайгу и распадок в зарослях.
— Парбы нет, — раздалось вновь ясно и отчетливо не с неба, не из дикого распадка, а из какого-то мне неведомого пространства, существующего помимо того, что было со мною и надо мной.
На сучке сосенки в нерешительности переступал лапками любопытный рябчик. Не выдержал кавалер, вылетел на зов из сумрачного и кормного распадка, но, почувствовав человеческий взгляд, собирался с разбега улететь. Я сшиб его с дерева, подобрал, сунул в рюкзак и, туго затягивая удавку, озирался кругом.
Выстрел, как я и ожидал, вернул ко мне живой и шумливый мой мир.
Дома я перелистал все словари, русские и иностранные, — слова, услышанного мною в тайге, нигде не нашел.
Да и было ли оно произнесено? Или это всего лишь наваждение, навеянное усталостью и тем, что хранится в глубине души, изредка тревожа наше несовершенное, от всего-то и всегда зависящее сознание.
Бурьян
С пестрой и не совсем трезвой делегацией письменников, русских и украинских, закатились мы в шевченковские места. От них рукой подать до деревень, оврагов, горушек с редким лесом, где глухой зимнею порой 1943 года происходили последние бои по уничтожению окруженной вражеской группировки, командование которой не приняло ультиматум о капитуляции.
Ничто не напоминало той страшной метельной ночи, когда происходило избиение людей людьми. Деревни обросли садами, хаты «пид бляхой» и под шифером россыпью растащены по некрутым косогорам и, плотно сгрудившиеся в долинах, млеют под осенним предзакатным солнцем. Поля, уже скошенные, с горбато высящимися скирдами посередине, умиротворенно и бескрайне раскинулись во все стороны, яркие озими зеленеют и серебрятся, радуя глаз свежестью, сосновые лесочки, которые конечно же в войну были свалены на дрова, на перекрытия окопов и блиндажей иль сожжены снарядами, отросли, обустроились. Кто-то из украинских друзей нашел в лесочке переросшую уже, жесткую черемшу, принес мне: «Бачь, то растет не только в Собиру, „Черемшина“ — песня е такая гарная у нас…»
Колхозы в пору нашего гостевания в шевченковских местах крепкие были, села богатые. Председатель крепкого колхоза (в бедный колхоз при Советах почетных гостей не возили), которому надлежало нас принимать, рассказывать о великих достижениях, за селом возле речки, оглохшей и замершей в приречной осоке и в каше ряски, показал нам заросли изброженного, смятого, ломаного бурьяна гектаров на восемь-десять.
— Специально оставляем, чтобы дети не забывали первозданной природы. И вы знаете, как ребятишки радуются этому подарку, бегают здесь, валяются в траве, кричат, рвут дикие цветы, приносят их домой и в школу. Здесь им можно вести себя свободно, как древним людям, здесь они, рабы двадцатого века и чудовищного прогресса, видят вольное вешнее цветение и в летнюю медовую пору тучи пчел, ос, шмелей, бабочек, охваченных своим тихим, добрым трудом, осенями в вызревающем, золотом опаленном бурьяне собирают гербарии, изготавливают музыкальные дудочки, делают брызгалки из борщовника; которые приболеют, и спят здесь. Мед в бурьяне пчелы берут от весны до снегу, птички малые гнезда прячут, собаки шерсть о колючки вычесывают, лекарственную траву жрут, домашняя скотина сюда забредает, лежит, о чем-то думает иль дремлет. Десять этих гектаров я покрою урожаем с других полей, зато у детей наших о своей природе, об этом вот клине земли память, и оттого иль от этого дети нашего села, вырастая, охотней остаются в своем колхозе, вкореняются.