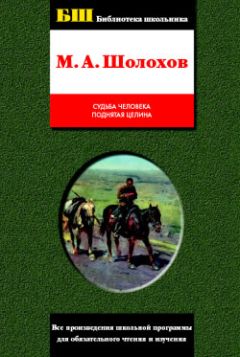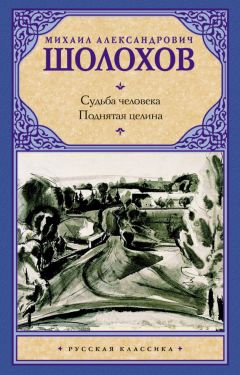Юрий Смолич - Рассвет над морем
— Как это важно, профессор!
Панфилов сказал:
— Вы, Иван Федорович, не говорите так часто «профессор». Меня зовут Гаврила Иванович.
— Извините, проф… Гаврила Иванович…
Ласточкин опять почувствовал, что растерялся и не знает, что говорить, несмотря на то, что сейчас как раз выпадал весьма резонный случай — от книги, которую писал профессор, перейти именно на тот самый разговор, который подготовил Ласточкин: об этой самой растительности юга Украины… Но, быть может, именно потому, что подготовленный разговор так непосредственно увязывался с работой профессора, рукопись которой лежала перед Ласточкиным на столе, у него не поворачивался язык сразу перейти к уже подготовленному, такому близкому к теме работы профессора разговору.
Панфилов посмотрел Ласточкину прямо в лицо.
— Вы извините меня, Иван Федорович, но мне кажется, что вы чувствуете себя неловко и не знаете, как начать о том, с чем вы ко мне пришли. Так, пожалуйста, не смущайтесь и начинайте. Я слушаю вас. Нуте-с?
— Совершенно справедливо, Гаврила Иванович, — признался Ласточкин, — я чувствую неловкость, оттого что отозвал вас от большой работы своим маленьким делом. Это, знаете, очень неловко — отрывать от деятельности, имеющей общественное значение, незначительными личными делами. Но мне посоветовал обратиться к вам и уверил, что вы не обидитесь, мой большой приятель, бессарабский агроном Григорий Иванович Онищук.
— А! — искренне обрадовался Панфилов. — Григорий Иванович и ваш друг? Очень рад! Чудесный приятнейший человек Григории Иванович! Беззаветный энтузиаст человеческого будущего, чистейшим образом влюбленный, да, да, самою первою юношескою любовью влюбленный в жизнь, природу, и в совершеннейшее ее творение — в человека!
Лицо Гаврилы Ивановича даже засияло при воспоминании о его друге агрономе Онищуке. К тому ж Гаврила Иванович тоже, несомненно, был первой юношеской любовью влюблен в жизнь, в природу и в ее наисовершеннейшее творение — в человека, влюблен в людей вообще, а в хороших людей в особенности.
Как легко и приятно говорить с таким человеком, как Гаврила Иванович! И как трудно было Ласточкину разговориться с ним сейчас…
И Ласточкин уже понял, почему. Потому что с таким человеком, искреннего и чистого сердца, человеком душевной простоты и прямого характера, говорить можно только прямо и просто, а Ласточкину нужно было заниматься искусственными подходами, выкрутасами и околичностями. А окольными путями, подходами и выкрутасами с такими простыми и естественными людьми разговориться невозможно. Но имел ли Ласточкин право заговорить прямо — на это он не мог еще себе ответить.
— Нуте-с, так с чем же послал вас ко мне дорогой мой Григорий Иванович?
Профессор Панфилов пощипывал свои седые усики, свою совершенно белую бородку, и глаза его были задумчиво-спокойны и приветливы: он вспоминал что-то приятное про агронома Григория Ивановича Онищука.
Ничего не поделаешь, надо было начинать.
Ласточкин начал:
— Гаврила Иванович! Григорий Иванович рекомендовал мне посоветоваться с вами относительно моей идеи. Дело в том, что, будучи вынужден переселиться из Центральной полосы России сюда, на юг Украины, я принял решение остаться и доживать свой век здесь…
Ласточкин добросовестно изложил все приготовленное им фантастические повествование о своей мечте приобрести землицы и вырастить на ней сад. Гаврила Иванович слушал его внимательно, покашливая и поглаживая усики и бородку, утвердительно кивая головою и иногда присматриваясь к выражению лица собеседника. Когда Ласточкин закончил вопросом, где искать землю и какие деревья следует сажать в северной полосе южной степи, Гаврила Иванович минутку помолчал, а потом сказал, спокойно поглядывая Ласточкину в глаза:
— Уважаемый Иван Федорович! Ваша дружба с весьма симпатичным мне Григорием Ивановичем Онищуком дает мне право сказать вам прямо: вас интересует нечто совершенно другое, но, не отваживаясь изложить это прямо, вы начинаете… гм… издалека. Вы сделаете мне большое удовольствие, если оставите околичности и изложите свое дело прямо.
Ласточкин почувствовал, что его бросает в жар, что он окончательно погорел, и внезапно, точнехонько так, как назвал только что свою настоящую фамилию, он выпалил:
— А известно ли вам настоящее занятие Григория Ивановича Онищука?
Панфилов бросил на Ласточкина короткий взгляд и склонил голову к плечу.
— Правду сказать, я отчасти догадывался… кроме того, он говорил, что укрывается от мобилизации в добровольческую армию, к которой не лежит сердце Григория Ивановича…
Но Ласточкину приходилось уже идти напролом.
— Григорий Иванович скрывается не только потому, что уклоняется от мобилизации в белую армию, — сказал он.
Панфилов кашлянул.
— Тоже возможно. Григорий Иванович человек с очень широким мировоззрением и свободомыслящий.
— Григорий Иванович, — твердо сказал Ласточкин, в подполье, в котором борется против иностранных оккупантов.
Панфилов опять кашлянул.
— Скажите пожалуйста! Это… похоже на Григория Ивановича. Он такой горячий, неудержимый, непримиримый…
Вдруг Панфилов прервал себя и посмотрел на Ласточкина. Взгляд его был пытливый, но дружелюбный.
— Скажите, пожалуйста, я, насколько научился разбираться в людях, понимаю, что вы не из… как это называется… словом, не из жандармерии. Так кто же вы тогда, что так говорите со мною, с человеком, который не имеет ничего общего с тем, что вы называете… гм… подпольем?
Теперь Ласточкин должен был уже идти прямой дорогой до конца.
— Разве вы, профессор, не против иностранных захватчиков?
Панфилов кашлянул.
— Я люблю Россию…
— А я тоже из подполья, в котором мы вместе с Григорием Ивановичем боремся против иностранных захватчиков.
Панфилов пригладил усы и бородку.
— Нуте-с?
Ласточкин сказал:
— И я пришел к вам потому, что Григорий Иванович…
— С ним случилось что-нибудь? — встревожился Гаврила Иванович.
Ласточкин улыбнулся — на душе у него стало легко, радостно и светло — и положил свою ладонь на руку профессора, которая задрожала на ручке кресла при тревожном вопросе о Котовском.
— Нет, дорогой наш Гаврила Иванович! С ним ничего не случилось. Наоборот! Григория Ивановича нет в Одессе, потому что он должен был выехать для организации широкой, всенародной борьбы против иностранных захватчиков, которые потоптали нашу родную землю, заливают ее кровью нашего родного народа и с которыми все мы, вместе с вами, будем бороться беспощадно, до полной победы.
Гаврила Иванович сидел, прикрыв глаза веками. Лицо его оставалось таким же, как и раньше, ни одна черточка в нем не изменилась — он не побледнел и не покраснел, только как будто какие-то тени легли во впадинах под глазами.
— Скажите, Иван Федорович, — тихо спросил он, — вы вот упоминали, что ездили по северной тайге купцом… Это неправда?
— Правда! — ответил Ласточкин. — То есть неправда только то, что ездил купцом…
— Вы были там в ссылке? Вы были политическим ссыльным?
— Да, я был на каторге, потом в ссылке.
— Следовательно, вы не только против иностранных захватчиков, но и против… против…
Ласточкин помог ему:
— Против их наемников: деникинцев или петлюровцев, все равно, как они называются, но против контрреволюционеров…
Ласточкин сказал это резко и теперь смотрел, какое впечатление произвел его ответ на профессора Панфилова. Собственно именно теперь наступал решающий момент. Против иностранных захватчиков, англо-французских оккупантов, были настроены широкие, широчайшие круги русской интеллигенции, против них был каждый патриот. А что профессор Панфилов был патриотом, сомнения в этом не было. Но ведь многие из патриотически настроенной части старой интеллигенции не умели еще разобраться в событиях и даже выявить свое отношение к белогвардейщине. Расслоение в рядах интеллигенции собственно только начиналось на меже восемнадцатого и девятнадцатого годов. И расслаивали ее именно события, которые происходили на нашей земле после Октябрьской революции. Ведь и Деникин вопил о своем «патриотизме», ведь и петлюровцы орали о своей любви «до рiдноï неньки», ведь и те и другие отрицали свою прямую службу интервентам и объясняли свое сотрудничество с ними тяжелым стечением обстоятельств, ведь распространялась еще коварная и лицемерная пропаганда меньшевистских и других соглашательских идеек, тоже скрывавшихся за фразами об «отечестве», о «патриотизме», о «народе», даже «революции» и «социализме»… Как в этом вопросе самоопределяется профессор Панфилов — это и был решающий пункт.
Профессор Панфилов сказал:
— Я не разбираюсь до конца во всей этой… межпартийной борьбе… — Он опять прикрыл глаза веками. — У меня просто болит сердце за нашу родину и ее… будущее.