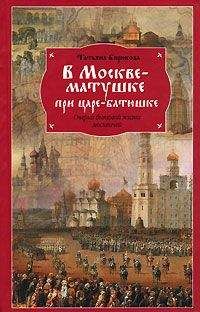Татьяна Назарова - Первые шаги
Захохотав, он пошел со двора, его сообщник двинулся за ним. Прикрыв калитку, они подошли к коляске.
— Подождем часик-два. Может, явится. Тут и сцапаем, — предложил первый.
…Услышав стук копыт, Павел, выпивший от раздражения бутылку коньяка, встал и, покачиваясь, пошел к дверям.
— Сейчас мы с ней поговорим, — бормотал он.
Но в комнату вошли только посланные.
— А она где? — багровея, заревел Мурашев.
— Ушла к подруге, старуха сказала. Ждали два часа и уехали. Видно, не вернется до утра, — сказал один из них. Павел затрясся от ярости.
— Ах, сволочь, шлюха!.. — заорал он, но вдруг опомнился: нанятых надо спровадить. — Коней привязали? — спросил он.
— Да, господин купец.
— Возьмите за труды, — он сунул им по пятерке. Потом, схватив со стола две бутылки, тоже передал им, оглянулся, увидел кусок материи и швырнул первому. — Ступайте. И об этом никому ни слова.
— Будьте покойны! Могила!..
Павел выглянул на лошадей, закрыл дверь, подошел к столу, выпил еще залпом два стакана вина и дал полную волю своему гневу. Он порвал и поломал все приготовленные подарки, побил посуду, свалился на табуретку и заплакал пьяными слезами.
— Всех и всегда обманываешь, подлюга! — пьяно причитал он. — Кирюху позоришь, меня обманула — считал тебя чистой. Наталья всем звонит о твоей скромности, а ты к мужикам ночевать бегаешь, подлая!.. Будешь моей рано или поздно, а потом своими руками убью! — грозил он Аксюте.
Только на рассвете Павел опомнился, кое-как привел себя в порядок, погасил лампу и вышел на улицу. Голодные рысаки понеслись по пустынным еще улицам. На следующий день купец Павел Мурашев со своей семьей покинул Акмолинск.
Глава тридцать шестая
— Плохо одно, Клим! Грамотных-то среди нас больно мало, — говорил Егор, подгоняя свою гнедуху. — Один только Андрей кое-как читает да пишет, а остальные — все неграмотные. Пока Палыч был, так это мало примечали: все он объяснял и Кирюшку обучил… Но, заснула! — прикрикнул он на лошадь и продолжал: — Получили мы листовки, Андрей привез из города, прочитал он нам их по тайности, а, пожалуй, понять-то и не все поняли, да и он много объяснить не может. К примеру, так сказать: царя скинем, комитеты народные будут править, землю у казны заберем — хорошо! Ну, а дальше как? У меня одна лошадь, а у Сеньки, в батраках у Нехотиных живет, — ни одной нету, у хозяина же его — шесть. Земля-то у всех будет, да сеять-то не все поровну сумеем; вот опять богаты и бедны будут…
Глубокий снег, почти выровнявший холмистую местность, под первыми горячими лучами весеннего солнца местами осел, покрылся тонкой ноздреватой пленкой, слепящей глаза мириадами крошечных алмазов. Слабо наезженный дорожный наст под ногами лошади часто проваливался. Гнедуха шагала неторопливо, зигзагами, сама выбирая себе лучший путь.
Но возчик и седок так увлеклись разговорами, что не замечали проделок гнедухи и резкого блеска снега. Лаптев, опустив вожжи, повернулся лицом к слесарю и, с трудом развивая свою мысль, требовательно глядел на него. Григорий, слушая, глубоко задумался и не поднимал опущенных глаз.
Слесаря радовало, что такие крестьяне, как Егор и остальные товарищи Палыча, уже считают необходимым свержение царя и даже ломают головы над устройством справедливой жизни после революции. Вопросы Лаптева заинтересовали его глубоко, но сколько он ни думал, подходящего ответа не находилось.
«Других послали учить, а я сам еще очень мало знаю, — мелькали обидные мысли. — Небось „наш товарищ“ сразу бы ответил…»
— Главное сейчас, Егор, чтобы все крестьяне поняли, за кого стоит царская власть, — заговорил он, когда Егор замолк. — А станут управлять советы рабочих депутатов, какие были в тысяча девятьсот пятом году, да крестьянские комитеты, так разрешат и те вопросы, что беспокоят тебя. Потом не забывай: Ильич и партия большевиков готовят тружеников к победе над богачами, они же поведут народ и дальше… — с большей уверенностью продолжал Потапов, стараясь подобрать самые понятные слова. — Вот взять сейчас вас к примеру: работаете вы сколько лет втроем вместе, и получается, будто у каждого из вас по три лошади: и сеете вы вовремя, и убираете. Добавь вам земли — и с той бы управились, верно?
— Верно. Ну и…
— Так, может быть, и не только троим можно будет вместе работать. Вон лобогрейка и сеялка у вас на шестерых хозяев, да еще многим помогаете…
Егор, задумавшись, помолчал, потом спросил:
— А богачи как?
— А у них лишнее заберем для общей пользы, — ответил Григорий. Это ему казалось ясным.
— Ну, ты! Совсем стала, — вдруг бодро закричал Лаптев на лошадь. Над тем, что сказал ему слесарь, еще нужно было поразмыслить, но он уже почувствовал в его словах правду, прояснившую вопросы, над которыми они с Родионом и Матвеем давно голову ломают.
Вдали показался оседлый казахский аул.
«Вот всем аулом вместе сеют, и как еще добре получается», — подумал Егор.
В ауле теперь постоянно жило двадцать семей. Возле двориков виднелись полузанесенные снегом стожки сена, с одной стороны глубоко вытеребленные. Из труб поднимались прямые столбики дыма — погода была тихая, безветренная.
Гнедуха сама свернула к двору Мамеда — не первый раз ей приходилось привозить сюда своего хозяина. Две собачонки с громким лаем выскочили из ворот, но, признав лошадь, завиляли хвостами. Услышав лай, вышел Мамед в накинутом на плечи чекмене.
— А, Егор приехал! — обрадовался он и открыл ворота.
Егор въехал на широкий двор. С обеих сторон двора стояли две саманные мазанки; в одной из них жили родители Мамеда и Шолпан, а другой — Мамед с молодой женой. Его тесть, тоже бедняк, отдал дочь Мамеду, взяв за нее только одну корову, но попросил зятя сделать ему избу. Второй год родители Балжан жили в оседлом ауле «мамедовцев», так называли себя все жители аула.
— Мамед, это наш товарищ! — сказал Егор, соскочив с саней и показывая на Григория, постукивавшего нога об ногу.
— Здравствуй! Гость дорогой будешь, — говорил Мамед, пожимая Григорию руку, по казахскому обычаю, обеими руками. — Изба айда, замерз!
Из мазанки, с левой стороны, вышел старый Джаксыбай. Он радушно поздоровался с приезжими и повел их к себе. Мамед, поставив гнедуху к сену, пошел вслед за ними.
В очаге с прямой трубой, проходившей в немазанный потолок из лозняка, под широким котлом горел ярким пламенем курай. Старая Ирысжан, мать Мамеда, присевши на корточки, помешивала что-то в котле большим деревянным половником; Шолпан сидела на полу, застланном серой кошмой, и шила, позванивая при каждом движении серебряными украшениями на косах.
При входе гостей Ирысжан поправила свой жаулук, а Шолпан, бросив шить, быстро разостлала сверх кошмы, поближе к очагу, одеяло и, улыбнувшись Егору, убежала из избы.
Скоро гости и хозяева пили горячий, крепкий чай с баурсаками. Женщины готовили лапшу. Проворно раскатывая на круглом низком столике тесто, они с интересом прислушивались к разговору мужчин.
— Весной больше будем сеять. Плугом пахать хорошо, семена есть, людей много стало, — говорил Мамед. Джаксыбай одобрительно кивал головой.
После того как был съеден бесбармак, Мамед пригласил гостей к себе в дом, а его жена Балжан, по знаку мужа, осталась у свекра. Мамед понял, что, наверное, секретный разговор будет.
На другой день со двора выехали две запряжки. Егор поехал обратно в Родионовку, а Григорий и Мамед — в зимовье куандыкцев. Их провожала вся семья Мамеда. Ясноглазая Шолпан вилась возле брата. От снохи она узнала, куда едут Мамед с гостем.
— Бостану привет от тебя передать? — шепнул ей Мамед.
Шолпан, покраснев, ничего не ответила, но глаза ее говорили, что против привета куандыкцу она вовсе не возражает.
Бостан уже несколько раз приезжал в аул, и шапочка Шолпан была украшена перьями филина. Хороший жигит, хороший охотник Бостан!
…Дорогой Григорию не пришлось говорить с Мамедом, хотя незнание казахского языка и не мешало ему — Мамед теперь хорошо говорил по-русски. Помехой являлся способ езды.
Небольшие санки цеплялись длинными вожжами к оседланной лошади, и возчик правил, сидя верхом в седле, а пассажир, далеко от него, полулежал на мотавшихся из стороны в сторону санках. В аулах, где они останавливались на ночлег, с хозяевами говорил Мамед на родном языке. Потапову оставалось только прислушиваться к непонятной для него речи. Он твердо решил как можно скорее научиться казахскому языку. Некоторые слова уже запомнил: когда Мамед говорил «уста», он знал, что разговор идет о нем.
До зимовья Бостана с Сатаем добрались за четверо суток. Мокотин Трофим был у своих друзей. Выслушав Мамеда, он обернулся к Григорию.
— Руку, уста! — сказал он, смеясь. — Теперь так тебя будут звать по всем нашим степям. Любая кличка здесь прирастает накрепко к человеку, становится известна всем.