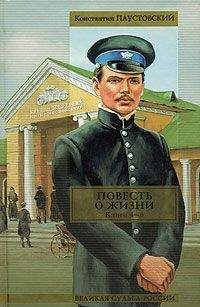Константин Паустовский - Том 4. Повесть о жизни. Книги 1-3
Но по своей чудовищной лени Розовский никогда ничего не записывал. Как только он садился к столу, ему делалось смертельно скучно, и он, бросив перо, уходил в редакцию или в кафе журналистов искать себе собеседников.
Я помню рассказы Розовского о старом деревянном доме, где он жил в Бруссе. Он начал этот рассказ не с описания дома, а с целого исследования о запахе деревянных турецких домов.
Дома эти, как утверждал Розовский, пахли теплой древесной трухой и медом. Особенно в жаркие и тихие дни, когда нельзя было притронуться к перилам террасы, чтобы не обжечь ладони.
В запахе древесной трухи всегда чувствуется привкус сухих роз. А медом дома эти пахли оттого, что вокруг в масличных садах с кустами дичающих роз водилось много пчел и они строили соты на чердаках домов, и потому-то дома так сладко пахли медом.
Впервые этот приторный запах высохших роз и меда Розовский услышал в Константинополе, когда ему показали осыпанный грубо отшлифованными драгоценными камнями ларец, где хранилось зеленое знамя Пророка. Оно было завернуто в истлевшие шелковые ткани и пересыпано лепестками роз.
Розовский открыл мне смысл многих неясных арабских образов и восточных стихов Бунина. С тех пор мне всегда кажется, что ислам — это религия дремоты, терпения и лени, особенно когда вспоминаешь стихи Бунина, навеянные чтением Корана:
И в знойный час, когда мираж зеркальный
Сольет весь мир в один великий сон,
В безбрежный блеск, за грань земли печальной,
В сады Джиннат уносит душу он.
А там течет, там льется за туманом
Река всех рек, лазурная Ковсерь,
И всей земли, всем племенам и странам
Сулит покой. Терпи, молись — и верь.
Я как-то сказал Розовскому о пассивности и лени ислама. Он обозвал эту мысль чепухой. Наоборот, говорил он, ислам — это самая воинственная и фанатическая религия. Стоит объявить священную войну, стоит поднять зеленый стяг Пророка, чтобы ислам обрушился на мир, как черный стремительный самум. И я наглядно представлял себе этот самум, эту мчащуюся низкую мглу, откуда доносится вой всадников, и в руках у них, как сотни маленьких молний, сверкают обнаженные ятаганы.
Я не могу, конечно, рассказать обо всех посетителях кафе журналистов, хотя они и заслуживают этого.
Но нельзя не упомянуть еще об одном осколке старой Москвы, председателе «Общества любителей канареечного пения» репортере Савельеве.
Этот вечно хихикавший старик был главным поставщиком политических сплетен и небылиц. Он не пострадал из-за этого исключительно потому, что был гугнив и говорил неясной скороговоркой. Лишь при очень большом напряжении можно было догадаться, о чем он рассказывает.
Все карманы его неряшливой куртки были набиты липкими леденцами. Он настойчиво угощал ими всех курящих. Он просто заставлял их сосать эти леденцы, облепленные мусором из грязных карманов. Поэтому как только Савельев входил в редакцию, все судорожно гасили папиросы.
Савельева прозвали «мортусом» за то, что единственной его обязанностью в газете было писание некрологов.
Все они начинались одними и теми же словами: «Смерть вырвала из наших рядов» или «Наша общественность понесла тяжелую утрату».
Некрологи эти так всем надоели, что однажды выпускающий решил слегка оживить очередной некролог, а кстати и подшутить над Савельевым и перед словами: «Смерть вырвала из наших рядов», вписал только одно слово: «Наконец-то».
На следующий день в редакции разразился громовой скандал. Выпускающего уволили. У всех было отвратительно на душе, хотя некролог и относился к какому-то неприятному педагогу. Савельев весь день сморкался в редакции у себя за столом.
— Я сотни людей проводил на тот свет, — бормотал он, — но я ни разу не погрешил против их памяти. Я им не судья. А о подлецах я не написал ни одной строчки.
Выплакавшись, Савельев пошел к главному редактору и, заикаясь, сказал ему, что в газете, где возможны такие позорные случаи, он работать не будет. Никакие уговоры не помогли. Савельев ушел из редакции, и тогда только все сотрудники вдруг почувствовали, что им не хватает и скороговорки Савельева, и его хихиканья, и даже леденцов, облепленных мусором и ватой.
Вскоре Савельев умер. Некролог о нем ничем не отличался от всех нудных и равнодушных некрологов: «Смерть вырвала из наших рядов скромного труженика газетного дела». И так далее и тому подобное.
Савельев был одинок. После него в душной комнате остался только старый попугай. Он висел вниз головой на жердочке, хихикал, как и его хозяин, и кричал дурным голосом: «Попка, хочешь липучку?»
Попугая забрал к себе дворник, и все счеты Савельева а жизнью были окончены.
Позднее всех в кафе журналистов врывался вежливый и шумный человек — «король сенсаций» Олег Леонидов. Приходил он позже всех нарочно, как раз в то время, когда сырые от типографской краски газетные листы уже вылетали из печатных машин.
В это время можно было спокойно рассказывать сотрудникам конкурирующих газет обо всех сенсациях, выловленных Леонидовым за день, не боясь, что они успеют втиснуть эти сенсации в свои газеты. Сотрудники белели от зависти, но поделать ничего не могли.
Слежка за Леонидовым ни к чему не приводила. Он был неуловим. Никто не знал, как и когда он проникает в недра новых советских учреждений и ласково, со снисходительной улыбкой, добывает там ошеломляющие новости.
Обмануть Леонидова и разыграть его было немыслимо. По части розыгрыша он сам считался непревзойденным мастером.
Один только раз, еще во время войны, неосторожный киевский журналист обманул Леонидова и подсунул ему фальшивую сенсацию. Леонидов чуть не вылетел за это из газеты, но так отомстил киевскому журналисту, что с тех пор никто не решался не только разыгрывать Леонидова, но даже шутить с ним.
Внешне месть Леонидова выглядела очень просто. Он послал киевскому журналисту телеграмму: «Харькове Архангельске Минске индюку давайте исключительно овес толокно».
Время было военное. Телеграмма попала в военную цензуру и была признана шифрованной. Журналиста арестовали. Запахло шпионажем.
Неизвестно, сколько времени журналисту пришлось бы просидеть в тюрьме, если бы следователю не пришло случайно в голову прочесть первые буквы всех слов в телеграмме. Они складывались в бранные слова. Журналист был освобожден и отделался только испугом, а Олег Леонидов спокойно ходил по Москве в ореоле остроумного мстителя.
Кафе журналистов закрылось из-за недостатка средств в конце лета 1918 года. О нем искренне жалели не только журналисты из самых разных газет, но и писатели и художники — жалели все, для кого эта квартира с низкими потолками, оклеенная нелепыми розовыми обоями, была свободным и притягательным клубом.
Особенно хорошо в кафе бывало в сумерки. За открытыми окнами позади пожарной каланчи и пьедестала от снятого памятника Скобелеву угасал в позолоченной пыли теплый закат. Шум города, вернее, говор города (в то время было еще очень мало машин и редко ходили трамваи) затихал, и только издалека доносились крылатые звуки «Варшавянки».
В эти часы все чаще ныло сердце при мысли, что там, за Брестским вокзалом, за Ходынкой, куда медленно ушел закат, роса уже ложится на березовые рощи и журчит, обмывая коряги, вода в прозрачной подмосковной реке. От реки тянет прохладой, тиной, гнилыми сваями. На брошенных дачах темно, и зацветают в одиночестве давно посаженные пионы. Роса стекает с мезонина на крышу заколоченной терраски, и, кроме равномерного звона капель, ничего больше не слышно в густеющем сумраке вечера. Оставленные на время в покое парки, поля и леса стояли рядом с растревоженной Москвой и прислушивались сквозь сон к ее напряженному гулу.
Зал с фонтаном
Правительство переехало из Петрограда в Москву.
Вскоре после этого редакция «Власти народа» послала меня в Лефортовские казармы. Там среди демобилизованных солдат должен был выступать Ленин.
Был слякотный вечер. Огромный казарменный зал тонул в дыму махорки. В заросшие пылью окна щелкал дождь. Пахло кислятиной, мокрыми шинелями и карболкой. Солдаты с винтовками, в грязных обмотках и разбухших бутсах сидели прямо на мокром полу.
Большей частью это были солдаты-фронтовики, застрявшие в Москве после Брестского мира. Им все было не по душе. Они никому и ничему не верили. То они шумели и требовали, чтобы их немедленно отправили на родину, то наотрез отказывались уезжать из Москвы и кричали, что их обманывают и под видом отправки на родину хотят снова погнать против немцев. Какие-то пронырливые люди и дезертиры мутили солдат. Известно, что простой русский человек, если его задергать и запутать, внезапно разъяряется и начинает бунтовать. В конечном счете от этих солдатских бунтов чаще всего страдают каптеры и кашевары.