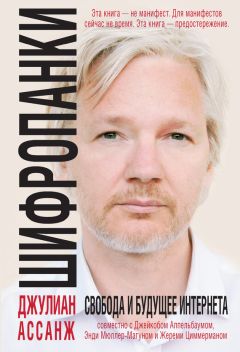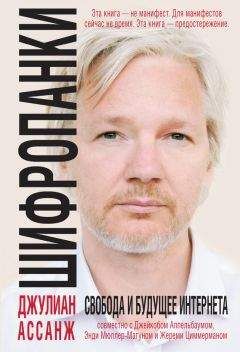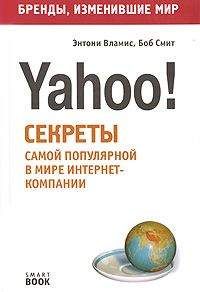Михаил Алексеев - Ивушка неплакучая
— Вот это разговор! — торжествовал Кустовец. — Теперь я могу и уехать. Вот ежели бы к песням вашим тетенька Екатерина еще и щец нам подкинула, тогда совсем было бы отлично!
Хлебая щи и мыча от удовольствия, похваливая этим взмыкиванием стряпуху, он что-то вспомнил, заработал ложкою еще проворней, остаток хлебова опрокинул в рот прямо из тарелки, тыльной стороной ладони вытер рот, крякнул, еще раз поблагодарил от души сияющую Екатерину Ступкину, вновь подошел к Фене.
— Вот что. Завтра у нас актив. Как раз о комплексных бригадах будет разговор. Доклад сделает Алексей Иванович. Обязательно приезжайте. Может быть, машину за вами прислать?
— Это уж ни к чему, — обиделся Точка. — Что у нас, своей не найдется?!
— Хорошо, приезжайте вместе на своей. Завтра в десять ноль-ноль. — Сказав это, Кустовец посмотрел на Федченкова: — Ну, ты со мной или еще побудешь?
— Немного погожу. Мне в другую бы бригаду наведаться…
— Добро. Но не забудь об активе. Тебе выступать.
Кустовец уехал. Проводив его взглядом, Мария Соловьева взяла Федченкова под руку и увела за будку. Он со страхом ждал, что она скажет. Мария глянула ему в лицо, в увлажнившиеся, покрасневшие глаза, помолчала еще немного, а потом тихо спросила:
— Где жить будем?
Он не вдруг понял ее, стоял, растерянно мигая реденькими, светлыми, почти невидимыми на припухлых веках ресницами.
— Что же ты?.. Я спрашиваю тебя, Андрюша, где жить будем?
Он понял наконец, зарделся, сказал:
— То есть… как где? В Краснокалиновске, конечно!.. У меня там трехкомнатная…
— Нет уж, Андрюшенька! — отрубила Мария. — В избе будешь жить, у меня, в Завидове, коль нужна я тебе. В город не пойду. И Миньку своего, как приедет из армии, никуда не пущу. И этих троих… Привяжу на прикол, как телят, и не пущу от земли. Пущай другие пасутся по городам, а мои будут на родимом ноле. Хлебушко выращивать. И мы с тобой…
Направившийся было за будку с совершенно иной целью Точка оказался случайным свидетелем этого разговора, немедленно встрял в него:
— Верно, Андрей Федорович, переезжайте к нам в Завидово, вот уже больше года ищу инженера для своего колхоза. Вам отдам эту должность!
— Да я что… я ничего… я согласен, — заторопился Федченков. — Отпустит ли Кустовец?..
— Отпустит! — твердо уверил Точка, потирая руки, как барышник после удачной сделки.
— А теперя, Виктор Лазаревич, ступай. Мпе с Андрюшей еще кой о чем покалякать нужно… — Проследив за тем, как далеко удалился председатель колхоза, Мария повернулась к Федченкову, прямо и холодновато глянула на него. Бледнея, сказала почти жестоко: — А ты, милок, подумал, кто я есть такая, прежде чем свататься? Знаешь, какая молва про меня идет по всему Завидову?.. Дошли до тебя ай нет эти слухи?
— Дошли, — сказал он спокойно.
— Ну что, поверил?
— Нет.
— Зря… Лучше бы уж поверил. — Мария смотрела на него так, что не всякий выдержал бы этот ее холодный, пронизывающий взгляд. Но Федченков выдержал. Сказал еще спокойнее и тверже:
— Если б и поверил, это ничего бы не изменило, Мария. Ты мне нужна. Очень. Я люблю тебя.
— Когда переедешь? — спросила она, отвернувшись, чтобы он не видел ее слез, уже бурно подымавшихся в груди.
— Хоть сейчас.
31
По какому-то жестокому закону равновесия, что ли, но счастье, как и несчастье людей всегда идут рука об руку. Всего один месяц прошел с того дня, как трое переселившихся в Завидово малышей расстались со своим полусиротством и нашли кров, пищу и ласку в пяти стенах Марьиной избы, в небывало короткий срок решительно преобразившейся от прикосновения сильной мужской руки. Однако в тот же срок, в одну роковую минуту, осиротело сразу трое завидовских ребятишек. Случилось это где-то посередине августа, в первый день открытия охотничьего сезона на водоплавающую птицу, когда Завидовский лес с его бесчисленными болотами и старицами подвергается опустошительному нашествию городских, отлично оснащенных и новейшим оружием истребления, и быстроногим моторным транспортом «любителей», когда с темного до темного подымается такая пальба, что непосвященное ухо могло бы принять за настоящее военное сражение; в тот день, когда сытые, здоровые, образованные человеки, натянув до самого жирненького пупка голенища резиновых сапог, принюхиваются вонючими ноздрями двустволок к каждому кубическому сантиметру лесного пространства с натренированной готовностью спустить оба курка в мгновение, когда в этом кубическом сантиметре мелькнет крыло обезумевшей от ужаса несчастной птицы, провинившейся одним лишь тем, что человекам надобно от времени до времени потешить в себе пробудившегося зверя; ежели в доисторические времена охота составляла для них источник жизни, биологического существования, то теперь — источник сомнительного наслаждения, потому как на обеденном столе нашлись бы припасы и без чирка…
Павел Угрюмов, передав свой «кировец» напарнику, спустился от Правикова пруда в село, выпросил у бессменного с времен коллективизации конюха Василия Николаевича свободную кобылу, запряг ее в рыдванку и, не заезжая домой, отправился в лес, вспомнив накануне, что дрова у них кончались, а жена собиралась «спроворить баньку» и для мужа, и для детишек. Узкой, заросшей высоченной травой дорогой выбрался поближе к Лебяжьему озеру, по берегам которого простирали свои высохшие, кривые руки-сучья еязы и карагачи, оказав-
шиеся единственною жертвой невесть откуда нагрянувшей, неизвестной местным жителям лесной хвори. Пилить этот сухостой никому не возбранялось, тут уж Ар-хин Архипович сам готов поставить поллитровку, чтобы односельчане поскорее освободили его зеленое хозяйство от этих зачумленных мертвецов, которые вполне могут быть носителями и рассадниками новых болезней. Павел знал про то, а потому, отправляясь в лес, не испрашивал у Колымаги специального разрешения. Гремевшие где-то рядом ружейные выстрелы не очень смущали его, потому как привык к ним; всякий год это повторялось, и завидовцам ничего не оставалось, кроме того, как покорно и безропотно ожидать конца этого узаконенного разгула не самых светлых человеческих страстей. Великолепно отточенным тем же конюхом топором Угрюмов-младший валил не шибко толстые дерева, не спеша освобождал стволы от сучьев, укорачивал их, сообразуясь с размером рыдванки; потихоньку насвистывая, укладывал в возок, согнутою рукой смахивая со лба пот. И, наверное, не успел ощутить боли, когда целый заряд дроби вошел ему сзади под левую лопатку. Стоял он в момент выстрела на возу, поправлял там дрова, на которые и упал навзничь. Так и принесла его в Завидово испугавшаяся лошадь…
Судебно-медицинская экспертиза искромсала тело молодого мужика, отыскала в нем несколько дробинок, сравнила их с дробинками, какие были и вообще бывают у охотников в этот сезон, — нашла, что Угрюмов повстречался с чьим-то случайным, шальным выстрелом, что преднамеренного убийства тут нету, что повинна в этой смерти собственная неосторожность Павла, что ему не следовало бы выезжать в лес, да еще к болотам, в такой день. На том дело и окончилось.
В Завидове на трех сирот стало больше.
Павла похоронили рядом с матерью, Аграфеной Ивановной, совсем недавно переселившейся за село, где находят вечный свой покой коренные завидовцы. Незадолго до смерти, воспользовавшись очередным приездом Сергея Ветлугина, она заманила его в свою избу, укрылась в горнице, предварительно удалив оттуда младшую дочь Катю, и, строгая, совершенно спокойно спросила:
— Ты был на Гришиных-то похоронах аль слышал, можа? Мне знать надо…
— Сам хоронил, тетя Груня. В землю опускал…
— Ну, ну, Сереженька. А теперь ступай. Иди, иди, милый…
Разговор этот был накануне Серегиного отъезда. А тремя днями позже Аграфена Ивановна преставилась. Умерла тихо, не хворая, — просто прилегла на старой широкой лавке, на которой любила подремать, повернулась лицом к стенке и заснула навсегда.
Теперь женщины, глядя, как мужики оправляют лопатами свежую могилу ее «младшенького», говорили с печальным удовлетворением:
— Хорошо, что не дожила до этого часа. Каково бы ей…
— Совсем бы с ума сошла. С ней и без того что-то творилось такое… Цельными днями просиживала на завалинке, и слова, бывало, из нее не выжмешь… Отмаялась, сердешная, прибрал бог вовремя, а то бы… Как те-перя Левонтий-то?.. Как без нее?.. И без сына?
— Дочь при нем младшая, Катя, да невестка с внуками. Для них подержится, можа, пяток лет…
Разошлись и, как уж водится, погрузились в житейские свои заботы. О Павле какое-то время вспоминали, особенно трактористы, когда проезжали недалеко от того места, где когда-то была воронка от бомбы, та самая воронка, которую сровнял с землей, ликвидировал бульдозером Угрюмов-младший. Четырехлетний, средний его сынишка, копошившийся на задах, за плетнем, и случайно наткнувшийся на ржавый, некогда захороненный его батькой осколок, мог бы тоже вспомнить в эту минуту об отце, но для этого он не видел и не мог видеть никакой связи. Подержал ржавую и колючую железку в ладони, а потом запустил ею в сороку, нацелившуюся было на куриное гнездо.