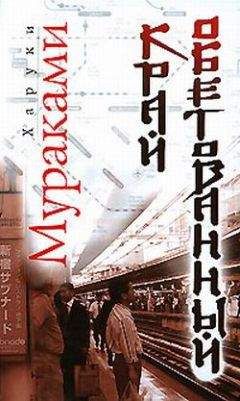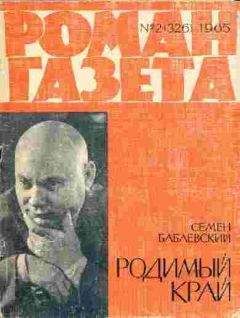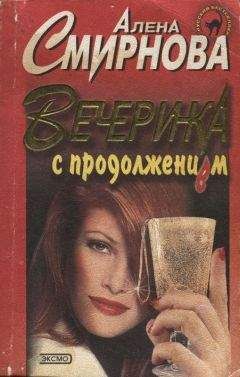Вера Солнцева - Заря над Уссури
Выхватив из кобуры грузный, неуклюжий кольт, хорунжий Замятин стал заворачивать пегую, местами лысую от старости кобылу.
— Вези, старый пентюх! Дух вышибу!
Костин безучастно сидел в санях.
— Повезешь? Повезешь? — тыча ему в зубы кольт, допытывался Замятин, тряся деда за ворот полушубка. — Пристрелю, как паршивую собаку!
— Чем напугал, убивец! — Никанор лихо сплюнул кровь изо рта на белый снег. — Да сделай милость, пуляй! Лучше пуля, чем на веревке болтаться. Моя Онуфревна заждалась. Зарок я выполнил, оттрудился перед миром… Я так решил: чем под вашей подлой властью жить да плакать, лучше спеть да умереть!.. — Никанор Костин запел дребезжащим, стариковским баском:
Не бойтесь, рабочие, крестьяне,
Железных цепей Колчака:
Ведь в нашей стране партизане —
Избавят они от врага…
Бабка Палага и возчик Тимофеич упорно стояли на одном: знать ничего не знают, ведать не ведают. Юрий Замятин, несмотря на изрядный мороз, даже взмок — пар пошел от него, — но не мог ничего добиться.
— Едем в Темную речку. Мы попадем туда засветло. Соберем народ, поставим ультиматум: или они выдают нам местопребывание партизанского отряда, или мы повесим этих старых псов… — прерывающимся от сдерживаемого бешенства голосом сказал Верховский.
Сани со стариками пленниками окружила толпа калмыковцев. Нагайками, хохотом и свистом подгоняя впряженных в сани старых клячонок, каратели с шумом и гамом ворвались в Темную речку.
— Собрать народ на площадь! — приказал Верховский.
Калмыковцы рассыпались по дворам, и вскоре на площади толпились напуганные женщины, инвалиды, старики.
Верховский поставил перед ними выбор: или ровно через тридцать минут миряне сообщат ему, где скрываются партизаны, или старики, пойманные с поличным, за их пособничество красным будут повешены здесь, на площади.
Перед односельчанами, окруженные сильным конвоем, стояли плечом к плечу безмолвные, словно высеченные из одного цельного камня, Никанор Костин, бабка Палага и старик возчик.
Толпа сгрудилась, молча смотрела на них. И неожиданно послышался и постепенно стал нарастать тихий скорбный плач. Казалось, оплакивая близких, чуть слышно, но безудержно рыдает один человек-великан.
Верховский, бледный, с подергивающимся лицом, покусывал тонкую верхнюю губу с заостренными вверх черными усиками. Он часто нервно вынимал из кармана часы и нетерпеливо посматривал на них.
И каждый раз, когда он подносил часы к глазам, плач обрывался, замирал. Неужто подошли к концу считанные минуты жизни стариков? Общим вздохом облегчения отмечали люди: нет, не пришел еще роковой, неотвратимый срок!
— Никто и не думает двинуться с места, — прошептал Юрий Замятин, — не выдадут они партизан!
— Я и не жду этого, — мрачно, с хрипотцой в голосе ответил капитан. — Однажды на глазах у матери я пытал ее единственного сына, и она молчала, а знала все, что нас интересовало. Приглядись, прислушайся: они уже пожертвовали стариками, — слышишь, сдержанный погребальный вопль звенит в воздухе? Оплакивают. Спасая партизан, обрекли стариков на смерть. Отступать не приходится. Надо принимать вызов.
Он вынул часы. Щелкнула-открылась крышка. Мертвая тишина упала над смолкшей толпой. Люди, не отрывая глаз, смотрели на приговоренных — прощались.
— Все. Тридцать минут истекло! — коротко отрезал Верховский.
В сухом морозном воздухе громко, как окончательный приговор, щелкнула захлопнувшаяся крышка часов.
— Все! — повторил капитан и деловито показал Замятину на высокие деревенские качели, возвышавшиеся на площади. — Хорунжий Замятин! Прибить сверху перекладину к столбам. Повесить всех троих. Проведешь сам. Я уйду.
— Нет, ты не уходи! Не спеши! — прогремел на всю площадь накаленный гневом голос Палаги. — Ты посмотри на нас. Полюбуйся на дело рук твоих, посмотри, как мы языками дразниться будем! Трясешься как осиновый лист? Боишься, пустоглазый, — презрительно прибавила она, — сниться будем? Антирес к жратве пропадет? Клятый ты, клятый… какая мать тебя родила? Как тебя земля держит? Чего выпучил бесстыжие зенки-то? Струсил?
Слова негодующей, разъяренной старухи разбудили в давно очерствевшем сердце Верховского далекие, полумертвые чувства. Он остановился, посмотрел на старуху.
— Мы с бабьем не воюем! А тем более — с такой ветошью, как ты, старая хрычовка. Отпустите ее. А этих вздернуть. Немедленно!
Конвойные быстро разрубили узлы веревок, связывавших руки старухи, охотно и широко расступились перед Палагой, давая ей дорогу из смертного круга.
Но она, ошеломленная внезапным приказом офицера, дарующим ей жизнь, несколько секунд еще стояла на месте. Потом закинула полу суконного сборчатого старинного полушубка, достала спички, гольдскую трубку. Зачерпнув пригоршню самосада, насыпанного прямо в карман, она набила дрожащими отечными руками трубку и жадно закурила. Все это не пришедшая еще в себя старуха делала машинально, очевидно помимо воли и сознания.
Затем взгляд Палаги упал на Замятина, орудующего у виселицы. Старуха дрогнула всем телом и бросилась бежать. Но потом остановилась, сжав кулаки, кинулась к Верховскому.
— Посмеялся? Посмеялся надо мной? Смертным испугом думал взять? Да люди вы или нелюди? Семьдесят три года отжила на белом свете и не ведала, что водятся на земле такие звери беспощадные, как вы. — Она протянула к Верховскому жалко трясущиеся руки, взмолилась: — Батюшка! Господин офицер! Помилуй стариков безвинных… Миру… народу служили. Понимаешь ты эти слова — мирская служба? Нет! Ты никогда не поймешь простого русского слова, — безнадежно качнула она головой. — Отпусти их! Не скверни чистых поганой веревкой. Им обоим жить часы остались, дай умереть по-человечески…
Палага повалилась на снег. Платок сбился с головы. Касаясь лбом заснеженной земли, старуха молитвенно протянула вспухшие от веревок руки к капитану, но, увидев его безучастные глаза, бесстрастное, барское лицо, пошатываясь, поднялась на ноги. Мольбы бесполезны: нельзя разжалобить нечеловека. Коротко вздохнув, бабка Палага бросила уничтожающе:
— Ржавое, железное сердце у тебя, пустоглазый. Постучи по нему — зазвенит. Будь ты трижды проклят, Каин-братоубийца…
Она, еле передвигая ноги, заковыляла к виселице, на которой уже болтались две веревки с крупными петлями на концах. Калмыковец-палач суетился около них, подставляя под каждую петлю обрубки круглых бревен.
Стариков подвели к месту казни. Никанор Ильич шел широко и свободно. Возчик не отставал от него.
Остановившись около петли, Костин посмотрел на односельчан и, сняв шапку, обнажил седую голову. Мирным, обычным тоном дед обратился к народу:
— Миряне! Моим родным, сыну Семену и Варваре-снохе, передайте обо мне потиху, чтоб не пужать… мол, сподобился за мирское дело мученической кончины Никанор Ильич Костин. Посылает он детям своим нерушимое родительское благословение… Простите меня, миряне, коли кого обидел словом или делом! — и он земно склонился перед безмолвной толпой.
Старик возчик следом за ним поклонился миру.
Неожиданно из толпы крестьян вырвалась пожилая простоволосая женщина и бросилась к нему.
— Батя! Батяня! — залилась она горючими слезами.
— Не плачь, Нюшка, не плачь! — прошамкал старик, пригладил растрепанные волосы дочери, поцеловал в губы, щеки, лоб. — За кровное гибну, за сынков. Хорошо помираю, дочка, — на большом миру, с чистой совестью. Вам за меня краснеть не придется. Внуков, внуков перед смертью не повидал! Иди, Нюша, иди отсюдова, не мучай себя. Платок накинь на голову, простудишься в такую-то стынь. Иди, доченька…
Женщина набросила платок, пошла было к толпе.
— Погодь, Нюша, погодь! — окликнул ее старик и сбросил полушубок. — Возьми шубенку-то. Пропадет без толку. Ребятишкам твоим пригодится: все голы, босы…
— Одень, одень, батя! Холодище! В одной ведь рубашке! — в ужасе подняла руки дочь.
— Бери, говорю! — прикрикнул отец. — С мертвяка брать — верно, нехорошо. А я еще живой. Какой мне теперь холод, доченька?
— Кончай, Юрий, скорее эту волынку! — нервно и нетерпеливо сказал Верховский. — Слышишь, опять вой подняли! Прощаются с обреченными. А ведь они их сами обрекли?!
И действительно, над толпой крестьян вновь зазвенел чей-то серебряный погребальный вопль, которому вторили новые и новые голоса. Уже чуть стемнело, и чудилось — вопит и стонет не только толпа на площади, но и ледяная река, и далекий лес…
Замятин свирепо рявкнул на замешкавшегося палача. Тот велел старикам встать под петли, на бревна.
— Прими, господи, душу раба твоего… Онуфревна! Мать… Иду… — крестясь перед кончиной, негромко позвал Никанор Ильич.