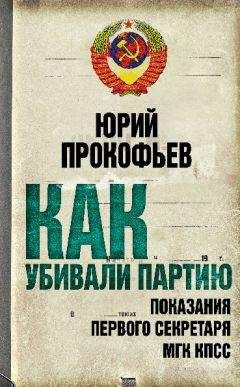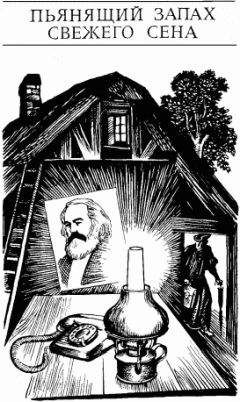Всеволод Кочетов - Секретарь обкома
Зал гудел, слушая выступление Владычина. Сжав виски ладонями, опустив голову, Василий Антонович смотрел в стол, в раскрытый блокнот. К карандашу не прикасался. Возражать было нечего, Владычин был прав. И потому, что он был до предела прав, потому, что держался только фактов, ничего не передергивая и не преувеличи-вая, а кое-что даже тактично обходил, — Василий Антонович чувствовал к нему нарастающую неприязнь. Пусть бы он что-нибудь передернул, пусть бы допустил натяжку, пусть бы подпустил демагогии, — можно бы этим воспользоваться и дать решительный, эффектный отпор. Но никакой зацепки для этого Владычин в своем выступлении не допустил.
Лиха беда начало. После Владычина последовали еще два выступления с резкой критикой обкома. Секретарь одного сельского райкома вдребезги разнес Огнева за его неясную, нечеткую линию в идеологической работе, в постановке партийной учебы, в пропаганде и агитации.
— Придешь к нему советоваться, товарищи, ни да ни нет не говорит секретарь обкома. Слов произносит много, но получается это, как перележавшая луковица — сдираешь, сдираешь с нее одну рубашку за другой, никак до живого не доберешься, так ее и бросишь. Не понимаю таких людей, не понимаю, как становятся они руководителями? Неужели других-то, которые поопределенней, у нас нету?
Вторым был делегат с химкомбината, инженер. Он поддержал Владычина, дополнил рассказанную им историю бывшего директора Суходолова.
Трудно далось Василию Антоновичу заключительное слово. Все, что касалось различных претензий с мест, это можно было отрегулировать. Василий Антонович говорил спокойно, деловито, отвечал на вопросы, поданые в письменном виде. Но делая это, он все время думал о выступлении Владычина.
Толком он так ничего и не придумал. Он не придумал никакой увертки, никакого хитроумного маневра. Да он, собственно, над такими маневрами и не размышлял. Он честно рассказал конференции все и, как в свое время на заводском собрании, признал себя виноватым, сказал, что это было ему уроком.
Во второй половине дня началось выдвижение кандидатов в новый состав областного комитета; потом приступили к голосованию: получали бюллетени, отходили с ними кто куда, возвращались, опускали в желтый фанерный ящик. Василий Антонович тоже опустил свой бюллетень. Никого он в нем не вычеркивал, в том числе и себя. Когда-то он непременно замазывал карандашом или чернилами свою фамилию в бюллетенях. В бытность на заводе на него произвел незабываемое впечатление один случай. Вот так же тайным голосованием избирали цеховое партбюро. Выдвинули одного инженера. Проголосовали: у остальных семерых хоть по одному голосу, да против, а у того инженера против ни одного. «За себя значит, проголосовал? — сказал кто-то. — Да!.. И разошлись перешептываясь. Инженер остался как оплеванный. Он говорил потом Василию Антоновичу: «И в голову не пришло — вычеркивать себя. Раз выдвинули, чего же тут демонстрироват свою скромность. Это же скромность ложная, и о чем не говорящая». Василий Антонович с ним согласился. Но на всякий случай всегда с тех пор куда бы его ни выбирали, непременно свою фамилию в бюллетенях вычеркивал. Дабы не попасть в положение бедняги-инженера. На этот раз он себя не тронул, он полагал, что после такой критики и без его голоса немало наберется голосов против секретаря обкома Денисова.
Скверное это было чувство, чувство ожидания того, как решится твоя участь. Да, собственно дело не в участи. Он, Василий Антонович, инженер — и по образованию, и по опыту работь Место ему в жизни найдется. Обидно другое, обидно будет сознавать, что весь твой, в сущности, очень большой, — может быть, не слишком плодотворный, но все-таки большой труд, — признают ничего не стоящим, признают, что ты, коммунист Денисов, не был принципиальным, что ты только водил людей за нос четыре года и ничего ониот тебя не получили, ничего не приобрели. Уйдешь отсюда, и никакого следа после тебя не останется.
То, что в резолюции по его докладу, которую обсуждали, пока комиссия подсчитывала голоса, работа обкома была признана удовлетворительной, это не очень утешало. Обком мог работать удовлетворительно, обком это обком, он отнюдь не сводился к личности одного из его секретарей — в частности, к личности Денисова. А вот личность-то эта, он, Василий Антонович, могла и не справиться с работой.
Час спустя он с напряжением слушал, как председатель счетной комиссии сообщал результаты голосования. Сначала фамилии прочитывались по алфавиту. Назвали Владычина: столько-то за, два против. Почти сразу после Владычина шел он, Денисов: столько-то за, двадцать шесть против. Он почувствовал, что краснеет: лицу, шее стало нестерпимо жарко. Из нескольких сотен голосов двадцать шесть не так уж много; но все же их двадцать шесть, а не два, не три, не пять, как у подавляющего большинства. Он ждал что, может быть, у кого-то будет еще больше. Нет, нет, у всех неизмеримо меньше. У Лаврентьева тоже не мало — восемнадцать. Но не двадцать же шесть. У Сергеева — четырнадцать. Но тоже не двадцать шесть.
— Огнев! — называет председатель комиссии очередную фамилию. Он называет и уже примелькавшуюся одну и ту же цифру за, и отчетлизо выговаривает: — Шестьдесят три против! — Зал загудел встревоженно, удивленно и вместе с тем, как показалось Василию Антоновичу, удовлетворенно, будто бы именно такого результата тут и ждали.
Затем председатель читал список избранных в обком уже не по алфавиту, а по числу голосов, поданных за. Фамилия Василия Антоновича была где-то в конце списка. Но фамилия Огнева была еще дальше.
Сообщив, что товарищи, избранные в областной комитет и в ревизионную комиссию, должны собраться завтра в десять утра на первый пленум, Василий Антонович объявил конференцию закрытой.
Раздался чей-то мощный голос, он запевал «Интернационал». Грянула могучая мелодия, звучали большие, весомые, как гранитные глыбы, слова, полные величественного смысла. Как ни скверно было на душе Василия Антоновича, эти слова, эта мелодия, исполняемая всеми, кто был в зале, заставили его распрямить спину, выше поднять голову; у него прибавлялось сил, энергии, даже просветы радости мелькнули в сознании. В таком хоре он не чувствовал себя одиноким. Он был частицей большого, огромного, в котором все нужны, все необходимы, все имеют свое место.
Василий Антонович хотел незаметно исчезнуть: сесть в машину, и пусть это заняло бы хоть всю ночь, но на десять, на пять, на одну минуту, да повидать Соню, съездить к ней туда, на Кудесну, в колхоз, куда с наступлением холодов и дождей Соня перебралась из палаток. Нельзя было без Сони в таком состоянии. Только она поймет, только она поддержит. А к десяти утра он вернется уже другим человеком.
Но его поймал Лаврентьев.
— Василий Антонович, куда? Поедем ко мне. Клавдия ждет. Мы так условились. И не думай. Что? В Балабановский сельсовет? Два дня будешь ехать туда, два обратно. Дожди же, грязь. Дороги там… сам знаешь.
У Клавдии был накрыт стол. Были пироги, были какие-то интересные на вид кушанья из рыбы. Были наливки и настойки. Клавдия вовсю занимала гостя. Рассказывала о результатах сортоиспытания различных злаков, произведенных за лето. Она сказала о том, что один из сортов кукурузы не только дал початки и зерно молочной спелости, но уже и до молочновосковой дотянул. Если заняться селекцией на основе этого сорта, через несколько лет можно будет получить сорт, который станет вполне вызревать в условиях Старгородчины.
Но все же, несмотря на старания хозяев, вечер не был слишком веселым. Василий Антонович уехал рано. Когда выходил из машины возле подъезда, увидел Александра и Майю. Они шли с прогулки и вели с собой Павлушку.
Александр и Майя были дома до тех пор, пока Павлушка не уснул. Потом Александр пошел провожать Майю. Василий Антонович ходил по пустому дому, из комнаты в комнату; посидел в бывшем своем кабинете, порассматривал спящего Павлушку. «Внук, — размышлял он. — Я, следовательно, дед. Дед!»
Называл себя дедом, но вспоминалось ему время, когда и он был таким же, ну, может быть, немногим побольше, чем Павлушка, вспоминались Ополье и ни минуты не сидевшая без дела, замученная мать, мальчишки и девчонки, давние-давние друзья; и так дошел он в воспоминаниях до встречи с девушкой, которая покупала книги по истории, вспомнились ему первые ее слова, и не только вспомнились, он их явственно услышал в сумерках кабинета, — и на сердце стало легче.
Назавтра первый пленум нового обкома открыл представитель ЦК. Все, в том числе и Василий Антонович, сидели в зале.
Представитель ЦК вышел к столу президиума и весело сказал о том, что, поскольку бюро нет, и вообще никакого начальства в обкоме нет, или, точнее, — есть коллективное начальство: все пятьдесят три человека, собравшиеся сегодня, то, пожалуй, он должен на несколько минут взять бразды правления в свои руки. Каковы будут предложения насчет кандидатуры первого секретаря обкома?