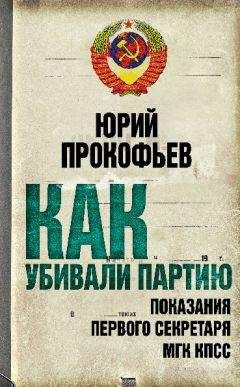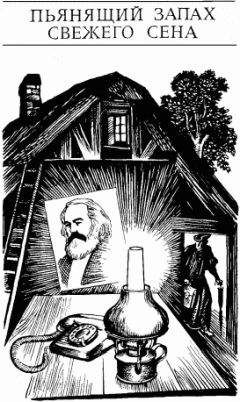Всеволод Кочетов - Секретарь обкома
— То есть?
— Что «то есть»! Взяли и вместо двух годовых планов вписали три. Три! Учитываешь? А раз вписали, надо выполнять. Ну и вот… Я перед тобой, видишь, как на духу, как перед попом на исповеди. Весь тут. Как знаешь, так и суди. Что же, по-твоему, мы отказываться должны были от своих слов? Какое бы это впечатление произвело в массах? Хороши большевики, взялись Америку догонять, а сами на попятный.
— Два годовых плана — это не было бы на попятный. Мы полтора дали, и то считаем, что хороший вклад в общее дело сделали. Правда, и золотых звезд не получили.
— Ты что же — намекаешь на карьеризм? Это, друг мой, не по-товарищески. Я, товарищ Денисов, с комсомольских лет на передовой линии. Не за ордена жил, за дело партии.
— Но ведь объективно — ты навредил сейчас партии. У тебя колхозы разорились. В долгах как в шелках. Должны мясо, должны молоко, должны деньги банку. Ты стоишь перед страшной зимой. У вас же нет кормов. Если опять будете силос у соседей клянчить, вам это не поможет. Столько, сколько вам надобно, мы дать не можем. А кроме того, у вас не только сочных, у вас и концентрированных кормов нет.
— Если соседи у нас настоящие коммунисты — в помощи не откажут. Дело делаем общее. Мы не отдельное государство, а одно.
— А кто на бюро предложил эти три годовых плана? — спросил Василий Антонович после долгого раздумия.
— Кажется, я, — ответил Артамонов. — Но разве это меняет дело? Решали коллективно. Если у кого были возражения, могли бы сказать, запротестовать.
— У тебя запротестуешь! — Василий Антонович зло двинул пепельницу на столе. — Помню, как ты вел бюро, когда мы приезжали. Рта разинуть людям ке давал.
— А почему же они не разевают? — Артамонов даже кулаком трахнул по столу. — Почему молчат? Почему соглашаются?
— Уж очень регалий у тебя много, Артем Герасимович. Подавляешь ими.
— Не сам делаю эти регалии, не сам, Василий Антонович. Учитываешь?
— Звезду Героя, получается, ты выковал себе все-таки сам. Третий план приписал. Бумагой его выполнил. Мог бы вовремя признаться в ошибке. Мог бы своевременно дать отбой. Ты этого не сделал. Почему?
— Я уже говорил, почему. Нельзя же престиж ронять.
— А колхозы разорять можно?
— Мы выправим, все выправим. У кого ошибок не бывает. Важно понять ошибку. Если хочешь знать, мы сегодня именно об этом и говорили. Ты звонил, а мы тут сидели. Мы попросим кормов, попросим денег, попросим скота подкинуть, семян.
— У кого попросите?
— Ну у кого, у кого?.. Ты маленький, что ли. Не у тебя же.
— У государства?
— Если мы работаем для государства… то и оно нам не откажет. Ты что же думаешь, я капиталы себе тут сколачиваю, да? Сам жру это мясо, эти корма, пью это молоко? Да? — Артамонов накалялся. — Для кого всё? Для кого? Я уже не молоденький, мне не двадцать, и даже уже не пятьдесят. Полоснет инфаркт по сердцу, и понесут все эти «звезды» впереди моих пяток, на красных подушечках. Что после меня останется? Каменные лабазы? Миллионы на сберкнижке? Дети да внуки останутся от стяжателя Артамонова! Да шесть пар белья. Куртка вот эта, затрепанная. Костюм, конечно, есть выходной. Да в нем в гроб положат. Приоденут почище.
Он говорил то, что мог бы сказать о себе и Василий Антонович. Он говорил правду. И это обезоруживало. В самом деле, Василий Антонович был в доме Артамонова, — что он там видел? Книги да ребячьи игрушки. Конечно, не во имя капиталов жил и работал Артамонов. Наверно, уймищу нахватал за свою жизнь всяческих выговоров — простых, строгих, строгих с предупреждением, с занесением в личное дело и без занесения, всяческих «на вид», «указать», «предупредить». И среди них время от времени мелькал орден или сверкнула вдруг Золотая Звезда. А что еще?
Было, правда, и «еще», и много «еще». Была радость от того, что труд твой приносил пользу тысячам людей, что от года к году жили они все лучше, и в какой-то мере, проводя политику партии, способствовал им в этом именно ты. Ну, а если такой радости нет, как получается у Артамонова? То за что же он работает, во имя чего живет, чем согревается его сердце?
— Не сомневайся, — снова сказал Артамонов. — Все исправим, Василий Антонович. Мы коммунисты и понимаем свою ответственность перед партией, перед народом.
— Это хорошо, — ответил Василий Антонович. У него становилось легче на сердце. В самом же деле, неисправимых нет. Трудно будет областной партийной организации, будет трудно обкому, самому Артамонову придется склонить гордую шею. Но исправить положение, безусловно, можно. Да просто надо, необходимо его исправить. О чем разговор! — Хорошо, — повторил он. — Но все-таки я считаю, что ты обязан сообщить в ЦК о случившемся. Давно это надо было сделать. Напрасно вы упорствуете. Зря, наверно, людей из партии исключили, обвинив их в клевете.
— Не зря, — перебил Артамонов. — Тут я с тобой не согласен. Нечего к кляузничеству приучатъ. Жалобы — это что, помощь? Это только трепка нервов.
— Зря, наверно, исключили, — не сдался Василий Антонович. — Я бы тебе советовал пересмотреть ваше решение. Сгоряча, полагаю, решали, осерчав на товарищей. А у них, думаешь, сердце меньше, чем у нас с тобой, болит за дело? Может быть, даже больше. Это же на их полях ничего не уродилось. Это нее их скот ты отправил на мясо. Не свой же.
— Не колхозников мы исключили. Один был кляузник из статистического управления, другой наш обкомовский работник, завсельхозотделом. Начальнички средней руки. Тоже не свой скот сдавали.
— Они где у тебя сейчас? Что делают?
— А черт их знает. Не хочешь ли к себе взять?
— Непременно. Это же замечательные люди. Такого дракона не побоялись. С такими, Артем Герасимович, работать можно с уверенностью, что не подведут. Твоим словцом скажу: учитываешь? Ты вот тут восклицал: чего молчали? Чего рот не разевали? Подвели, мол. А эти-то не молчали, рот разевали. Что ж ты их не оценил по достоинству? Подхалимы тебе нужны, молчальники, угодники. Своих мало, — наших подбираешь. К тебе недовольные Денисовым бегут, ты их принимаешь с распростертыми объятиями, квартиры даешь.
— Мелочь. Стоит ли об этом говорить, Василий Антонович.
— Обо всем стоит говорить. Любая картина из отдельных мазков складывается, из мелких штришков и черточек. Это одна из черточек. Благодетелем хочешь быть. Этаким Ваней Калитой. Собирателем. Но собирателем тех, кто тебе сладкие песенки в уши поет. А ты слушаешь, жмуришься от удовольствия — и в итоге многого не видишь сквозь сжатые-то веки.
— А ты что, особенный? — взорвался Артамонов. — Ты сладких песенок не любишь?
— Нет! — резко ответил и Василий Антонович. — Спрос рождает предложение. Я их не требую, мне их и не поют.
— Завидуешь, значит! В том-то все и дело! — Артамонов, нарочито смеясь, откинулся на спинку кресла. — Ларчик просто открывается. Эх ты, святой человек! Самому бы золотых звезд хотелось. Да не дают!
Василий Антонович переждал новый прилив крови к голове, сдержался, ответил спокойно:
— Я этого не слышал, Артем Герасимович. Того, что ты сейчас сказал. Иначе надо было бы встать и уйти. А мы еще разговор не окончили. Отношу твою выходку на счет расшатанных нервов. Понимаю тебя.
— Ты слишком великодушен, — мрачно сказал Артамонов. — До отвращения. Я так лицемерить не умею. Я человек открытый. Что думаю, то и говорю.
Выплеснув остатки чая прямо на ковровую дорожку, он налил в стакан боржому, не отрываясь выпил, снова налил и снова выпил, и тогда вылил в стакан все, что осталось в бутылке. Пузырьки газа скапливались на стекле. Василий Антонович следил за их возникновением, за их перебежками и думал о том, как же быть дальше.
— Словом, договариваемся так, — по-прежнему мрачно заговорил Артамонов. — Ты прав, я напишу обо всем в ЦК. Напишу, и мы будем работать. Здорово будем работать. А написать — напишу. Это ты верно. Сам, без всяких кляузников. Меня поймут. Только, знаешь, не торопи. Это не легко. Надо всему собраться, провести в себе полную внутреннюю мобилизацию. Верно же?
— Думаю, что верно. Я рад за тебя, Артем Герасимович. Рад, что и ты пришел к такому решению. Нельзя, понимаешь… Мы — коммунисты… Мы не имеем права обманывать людей, водить их неверными дорогами. Если сами не видим, где дорога правильная, если не можем одну от другой отличить, значит, сказать об этом надо людям, пусть и они помогают ее искать, или пусть без нас с тобой, сами обходятся. Но только не обманывай людей.
— Прав, прав, — согласился Артамонов. Он, видимо, очень устал от такого разговора, время было позднее, часы показывали третий час ночи. — Я тоже рад. Рад, что мы поладили, что ты помог мне принять решение. Спасибо. — Потом он сказал: — Пойдем-ка ужинать. Да, может быть, у меня и переночуешь?
Василий Антонович отказался. Нет, нет, ему надо быть рано утром в Старгороде. Дел много. Терять времени не может. Поспит в машине.