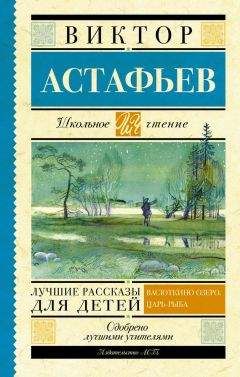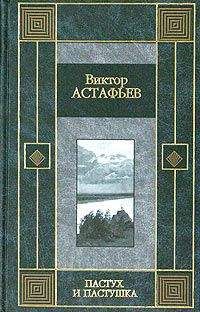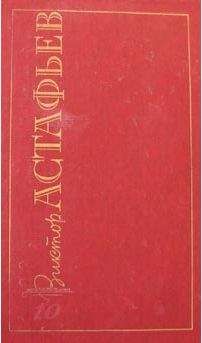Виктор Астафьев - Затеси
Наконец, мы притиснулись в каком-то закутке, вышли из машины и услышали тихое пение — поляки пели псалмы, пели наподобие наших романсов, пели все, малые и старые, инвалиды и рабочие, богатые и бедные, пели и плакали. С неба лился дождь, с зонтиков лился дождь, по лицам людей лился поток слез, омывающих душу, иногда высокий чей-то голос срывался на рыдание, возносился над толпой, над этим морем зонтиков, качающихся и плавающих в дожде людской стихии, и тут же голос отчаяния и боли опускался с высот, соединялся с гласом народным — единый хор славил Пресвятую Деву Марию, Господа Бога, благодарил за деяния Его и милости, просил прощения, просил даровать счастье покаяния и любви к ближнему.
Ничего подобного никогда мне еще не приходилось слышать, никогда более не доводилось видеть такое единение, внимать такому могучему и смиренному сердцу молитвой объединенного народа.
В воздухе, в пелене дождя послышался громкий щелчок, и над костелом, на крышах домов и на балконах засветились экраны — по телевидению зазвучало напутственное слово и благословение главы всепольского духовенства кардинала Вышинского.
В праздничной сутане вишневого цвета, в алой шапочке, прибранный, нарядный, больной кардинал возлежал на белой постели и тихим голосом поздравлял польский народ, трудящихся краковской земли и комбината в Новой Хуте с великим событием, призывал к спокойствию, к смирению, напоминая, что при закладке костела пролилась кровь, и ныне небо оплакивает светлыми Господними слезами те невинные жертвы, о которых Господь наш всегда помнит, всегда страдает за нас, грешных. «Модле ше, жэбы мою и вашэ офярэ пшыёл Буг, Вшэмогопцы» (я молюсь, чтобы мою и вашу жертву принял Всемогущий Бог). И далее кардинал говорил о том, что человечество устало от крови, братоубийства и страданий, человечество нуждается в покое, в мире, молитва должна заменить на земле боевые военные марши… «Так будьте же достойны слез и прощения Господа нашего, уймите в сердце гнев, не опускайтесь до мести тем, кто сеет на земле зло. Гордо, смиренно и достойно ведите себя при открытии храма Господнего, не допустите кровопролития, бунта и братоубийства. Господь един. И он за нас, страждущих, о милости и мире молящихся…»
Вот примерно то, что перевел мне Ян Ярцо из речи и напутствия умирающего кардинала Вышинского и что сохранила память, ведь было это уже давно, может, более двадцати лет назад.
Затем началось какое-то движение на площади, словно бы шла перегруппировка войск, наводился порядок у входа в костел, который я никак не мог ухватить взглядом из толпы. Но вот откуда-то свалился совершенно захлопотаный Ян Ярцо, сунул мне в одну руку несколько гвоздик, в другую — картонную карточку, сказал, что это пропуск в ложу, и потянул меня за собой. Мы очутились на трибунке, собранной из легких металлических трубочек. Меж рядов трибуны, на самом верху стояло кресло с высокой резной спинкой, крашенное черным, с вишневым бархатным сиденьем и спинкой. Люди подходили к этому креслу, клали на него цветы и на минуту присаживались. Подведя меня к креслу, Ян Ярцо многозначительно улыбнулся, велел мне проделать то же самое и в заключение загадочно сказал: «Будешь со временем гордиться, что сидел в этом кресле…»
Расспрашивать Яна Ярцо и разгадывать его слова было некогда — открылась верхняя боковая дверь и нас попросили поспешить на определенные нам места.
Новый костел был нов и по архитектуре: он не возносился в небо островерхими крышами, на которых малой птичкой сверкали крестики. Новый по архитектуре, из современных материалов строенный, веселее древних храмов крашенный, он совмещал в себе и стиль кубизма, и барокко, да и от современных убогих зданий в нем что-то было. Снаружи костел казался небольшим сооружением, несколько даже и потерявшимся в толпе и как-то ужавшимся в себе застенчиво от такого к нему всеобщего внимания.
Но внутри костел, несмотря, опять же, на строгую, расчетливую архитектуру, поражал взор роскошным великолепием в недорогом убранстве. Ложа прессы располагалась действительно в ложе, прилаженной наподобие балкона вдоль глухой, торцовой стены, там уже толпился народ, жужжали многочисленные кино- и телекамеры — открытие костела в Новой Хуте было событием не местного значения, шла трансляция чуть ли не на все страны Европы, кроме нашей, безбожной, снимались ленты для Латинской Америки. Католики на исходе двадцатого века оказались не столь разобщены и подавлены большевистско-гитлеровскими режимами, как православные христиане, они активно объединялись, используя для этого любую возможность, показывали красочные спектакли с изображением истовой веры в Господа, так что гордо дремлющим православным оставалось лишь сердито хмуриться и ворчать.
Огромный зал костела, полный света и огней, несмотря на все продолжающийся наволочный дождь, серо опеленавший большие стекла, сверкал, переливался разноцветьем, еще не потускневшим, ярким золотом на канделябрах, абажурах, подсвечниках и росписях. До потолка возносились в нем окна, пористый камень, искусно тесанный, красиво уложенный; серебристые алюминиевые конструкции — все-все создавало ощущение легкого полета ввысь, в небо среди переливающегося волнами небесного света. Каплан, или как его там, в черной длинной одежде и в черном головном уборе, излаженном в виде огромной бабочки со сложенными крыльями, отпер двухстворчатый вход в помещение, на улице шевельнулась и прихлынула волна плотно спрессованных, мокрых от дождя людей. Вот уж к стенам, к окнам кого-то придавили; вот уж кто-то смертно вскрикнул пронзительным детским голосом. Но каплан загородил собою вход, властно вскинул вверх руку с двумя сложенными пальцами, что-то негромко крикнул — и все унялось. Тут же строгий этот человек, руководивший всей торжественной церемонией, отступил в сторону. В храм вошла пожилая женщина в одежде и с номером узницы Освенцима, ведя за руки двух мальчиков-ангелочков — к Телу Господню, вытесанному из розового мрамора и возлежащему на невысоком помосте. Я сперва подумал, что это сцена и на нее вот-вот вынесут стол с красной скатертью, поставят на него графин, на стену повесят приветливо улыбающегося плешивого Ленина. За тот стол, в президиум усядется местное начальство вместе с кардиналом Войтылой, и начнется тягомотное торжественное заседание.
Женщина, бывшая узница концлагеря, мальчики-ангелочки обочь ее опустились на одно колено, поклонились мраморному Телу Господню, затем женщина приложилась к нему губами, за нею все так же точно проделали и мальчики-ангелочки.
«Ну вот сейчас-то и войдет местное начальство вместе с кардиналом, и затешется на сцену», — думал настойчиво я и снова ошибся. Вместо начальства в храм вступило сто бывших узников фашистских лагерей, и я решил, что еще сто узников вступят — из советских лагерей, но их или не оказалось вживе — советские палачи работали «чище» немецких, или еще не наступило время для подобных демонстраций.
Все мученики, вступившие в храм, были одеты в основном в концлагерные одежды, шли на костылях, катились на тележках, вели друг друга под руки, и пестрой кучей свалились они на полу у подножия гроба Господня, издав единый душераздирающий стон. Воплями, громкими рыданиями мольбы и раскаяния откликнулась огромная толпа возле храма.
И все текли, текли по высоким стенам — стеклам, все не иссыхали слезы небесные…
Следом за бывшими узниками в храм величаво, как это умеют делать только паненки, ступили немногочисленным строем послушницы, так чисто и нарядно одетые в кремового цвета мягкие одежды, голубыми глазами сияющие, с русыми волосами до плеч, все, как на подбор, красавицы славянского типа. Люди невольно поднялись навстречу им, заулыбались сквозь слезы умиления, инвалиды, кто был зряч, вызывавшие у людей боль и слезы, расступились, пропуская вперед дивных этих девочек, вселяющих надежду в сердце, что очистится еще мир Божий от скверны, народит еще красивых детей, вырастит людей, достойных звания чада Господня, и успокоится, наконец, взбесившееся человечество красотой и верой.
Следом вошли стройными рядами маленькие послушники, за ними подростки, юноши, строгость одежд которых смягчали лишь белые воротнички и узенькие манжеты.
И, наконец-то, вступил в храм величественный кардинал во всем великолепии: в золотой короне, с золотым крестом, прижатым к груди. Длинную мантию с золотым шитьем и белым шелковым подкладом поддерживали за полы два белоголовых мальчика, тоже похожие на ангелочков. За кардиналом сосредоточенной свитою шли строгие священнослужители высоких рангов, дальше — капланы, священники, и, наконец, храм начал заполняться верующим людом.
Ни одного не только пьяного, но и выпившего в толпе не было. Несколько раз подъезжали машины «скорой помощи», кому-то деловито и сноровисто оказывали помощь сестры милосердия. Народу возле костела, несмотря на непогоду, не убыло, а прибыло — подъезжали люди из Кракова, из Варшавы и других городов.