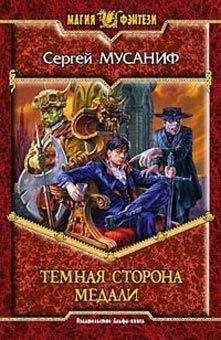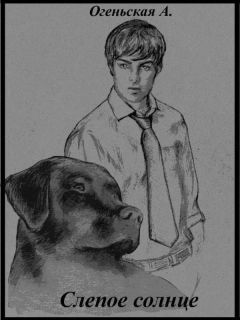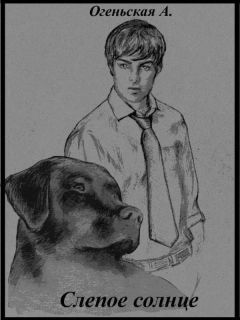Юрий Карабчиевский - Каждый раз весной
И кстати… Я хочу тебе сообщить… Почитал я тут всякие книжки и, знаешь, одумался. Я понял, что если бы и был бы царицей и имел бы кучу свободного времени, все равно сегодня уже не стал бы основывать новую дисциплину под красивым названием «Патологоэстетика». Я просто не смог бы обозначить предмет исследования, не смог бы определить его границы.
Потому что сегодня в этих новых книжках патология — это и есть эстетика, все — внутри одной категории, ничего — снаружи… И не то чтобы писали их неврастеники, нет, здоровые, пьющие мужики или даже крупные полнотелые бабы. Но то, что мы вчера считали мерзостью, гадостью, сегодня — их единственный хлеб. Так они и соревнуются, опережая друг друга, кто больше всех мерзостей вспомнит, а лучше — придумает, каких еще не было, и как можно наглядней изобразит. Вот, — говорят они, — каков человек — и мал, и мерзок, как мы, и еще мерзее… А я говорю им: врете, подлецы, он и мал, и мерзок не как вы, иначе… А впрочем, знаешь… быть может, они в чем-то и правы. Я даже иногда допускаю, что правы во всем. Только нам с тобой их правоту не понять. Мы не можем жить в мире, где мерзость никак не отличается от немерзости. К счастью, мать, хорошие люди, напрочь из литературы исчезнувшие, в жизни еще понемногу встречаются, и мы здесь не будем топтаться на месте, выясняя, что это слово значит. Хорошие люди есть хорошие люди, кому надо, тот знает. Будем радоваться, что есть, вот и все дела. А книжки — это не главное. Бог с ними, с книжками, мало, что ли, всяких разных написано, не одни — так другие, читать не перечитать, жизни не хватит. Вот тебе не хватало ведь… Ничего, обошлась и без этих новых…
6
«Ну вот, чистенькая, сухонькая, хоть сейчас замуж», — говорила Лидия Ивановна Плаксивой, уверенным ловким движением в одну руку собирала вонючий комок простыней, выполаскивала в умывальнике таз и, не задерживаясь, двигалась дальше. Двадцать палат, девяносто три полумертвых тела: она регулярно, без просьб и вызовов, обходила всех. Ночью пристраивалась в коридоре на трех шатких стульях, похрапывала. Мне случилось будить ее, когда все уже было мокрое, я долго ходил вокруг, решался, подходил и трогал ее за плечо, бормоча непрерывный поток извинений. Она просыпалась мгновенно: «Да что ты, что ты, какой там сон. Мне спать нельзя, я на работе». Бодро вставала, отпирала шкаф, выдавала мне пару сухих простынь, а еще одна, от себя самого припрятанная, стиранная мною под краном умывальника, сушилась у меня на батарее, а еще одна, принесенная из дому, совсем уже тайная, лежала на самом дне хозяйственной сумки…
Я проверял каждые полчаса и, даже если засыпал, с ритма не сбивался. У меня, ты знаешь, всегда было острое чувство времени, мог проснуться по заказу в любой назначенный час с точностью плюс-минус пять минут. Здесь, в больнице, эти внутренние часы перенастроились на получасовые повторы и тоже — работали безотказно. Я, собственно, даже не всегда до конца просыпался, я ведь спал рядом, в кресле, вытянув ноги, просто раз в полчаса вытягивал руку вправо, просовывал между простыней и больничной клеенкой, если было сухо, спал дальше, до следующего раза. Часа четыре в ночь выпадало чистого сна, да еще полтора часа дневного — как раз в меру, в такой ситуации больше не требуется. Если было влажно — вставал, менял и застирывал. Я здорово ловко научился менять: откатывать тебя от себя к стенке, на правый бок, присобирать, подтыкать, подкладывать, застеливать, возвращать, выпрастывать, укрывать… Вот такой я был кругом молодец…
Ты всегда гордилась своим сухощавым телом, и стеснялась его, и все же гордилась, обыгрывала, обговаривала с разных сторон каждый осмотр любым врачом, мужчиной ли, женщиной, а было их в последние годы немало, этих осмотров: превращала каждый в небольшой спектакль, танец вокруг самой себя, такой невозможно худой, такой постыдно худой, такой почетно худой, такой изящно худой, недоступно ни для кого худой… «Вы, наверное, в первый раз видите такую худую женщину, правда, доктор?» — «Ну что вы, вы-то как раз в норме, зачем вам лишний вес, обременяет и старит…» — «Да? Вы так считаете? Ты слышишь, сынку, доктор считает, что я в нормальном весе, как тебе нравится? А я все переживаю, переживаю, аппетита нет, заставляю себя…» — «Ну, зачем же заставлять, заставлять как раз не надо». — «Да? Ты слышишь, доктор считает…»
Прости меня, я слегка увлекся. Но ведь так и было, не станешь спорить. А с каким удовольствием, с неустанным и свежим каждый раз удивлением, с фальшивым сочувствием ты показывала где-нибудь в поликлинике, в магазине, в телевизоре, на остановке автобуса толстую или даже просто полную женщину, сокрушенно покачивая головой, скашивая конфиденциально глаза, мол, бывает же такое несчастье, такое уродство, и какое счастье быть не такой, вот такой, хоть и слишком худой («худенький»: худенькая, слабенькая, сердечко, головка — про себя, про свое — постоянная мишень для наших обстрелов… Что бы делала, чем бы развлекалась наша крепость без этих твоих уменьшительных суффиксов?), быть такой, хоть и слишком худой, но зато уж точно, с запасом, с гарантией до конца жизни, не такой, как эта… Поправляются все, лишь тебе не дано поправляться. И постоянный комплимент в нашу сторону, при каждой возможности со скрытой, то есть явной и очевидной бомбочкой: «А ты хорошо выглядишь. Поправилась…» Я-то знал, что бомбочка была всего лишь хлопушкой, там важно было не убить-покалечить, а привлечь внимание. Не в том дело, что она поправилась, а в том, что ты — все такая же худенькая. Сладкая, всю жизнь согревающая идея. Как было не простить ее тебе, не пропустить мимо ушей? Но тут уже ничего от нас не зависело, тут провал сильнее наших сил и тут закон…
А на самом деле не такая уж ты была худая, всегда была хорошо сложена, а с годами и брюшко появилось, и плечи округлились, все как положено. Но потом, когда отказало сердце… и зашили тебе эту электронную стукалку, вот тогда действительно, пошла ты круто на убыль, и стало мне слегка жутковато, но уж тут ты как раз и перестала играть эту пьесу. Что бьло делать твоему актерству в так просто ощутимой реальности? Зато как легко было тебя ворочать теперь, что я делал, когда бы ты была такая, как вон та, по диагонали, огромная куча гниющей боли…
«Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай, она мать твоя, не открывай наготы ее…»
Но если дежурила Анна Николаевна, Плаксивая начинала с шести утра заранее плакать, умоляла меня убрать, помыть, перестелить до прихода няньки. — «Она меня всегда обижает, кричит на меня, а я не могу, я расстраиваюсь, на меня никто никогда не кричал, сыночек мой уж такой ласковый, муж-покойник уж так любил, а она кричит, а еще как ударит — уж так больно, уж так больно…» Я сперва был уверен, что все здесь вранье, оказалось — только про сына и мужа. Анна Николаевна — низкорослая, круглая, крепкая, еще не совсем старая баба — сама по палатам вообще никогда не ходила, отзывалась только на просьбы врачей, сестер или родичей. Злобное, тревожное, опасное облако несла она над собой, впереди себя. «Когда уж ты сдохнешь, дура старая, кому ты нужна, все ноешь и ноешь!» Переворачивала Плаксивую на бок, так что та непременно стукалась головой о стенку, резко дергала за руку, специально щипала ногу… Мою трешку в коридоре, на подступах, принимала снисходительно, без улыбки и уж, конечно, без благодарности. «Угу» — и все. Первый раз сухую простыню давала безропотно, второй раз — так же молча, но уже иначе, резким недовольным движением, а на третий раз огрызалась: «Ну, зачастил. Не все ей, твоей, сухой лежать, пусть и мокрая полежит, не принцесса!» И ночью спала в процедурной комнате, заперев дверь изнутри до утра.
Раз в день тебе ставили капельницу — веселая, бодрая, широкая телом процедурная сестра лихо вкалывала иглу, закрепляла канюлю пластырем: «Кончится, скажешь!» — и четыре раза кололи антибиотик, температура никак не падала.
Нет, знакомых врачей я ни разу не встретил, да и как бы я с моим дефектом памяти… Ты знаешь, я начисто не помню ни лиц, ни имен… Я бы просто не знал, о ком спрашивать. О ком-нибудь, кто работал здесь пятнадцать или двадцать лет назад? Глупо ведь, верно?
И вот я сел с утра в свое кресло в коридоре — и стал целенаправленно высматривать. Решил так: увижу знакомое или даже будто бы знакомое лицо — подойду, заговорю, представлюсь, попрошу, перед Левкой и Богом оправдаюсь, а там — что будет… Понимал ли я тогда, что ты умираешь? Надеялся ли на что-нибудь?.. Нет, не так. Предполагал ли, что возможен благополучный исход? Нет, и это неточный вопрос. Было ясно, что ничего благополучного нам с тобой не светит. Паралич, полный или частичный, в сознании или без сознания — вот все варианты. Нет, я этого не желал ни тебе, ни себе. Необходимость бороться за твою жизнь представлялась мне тяжкой и ненужной повинностью, не тебе повинностью, а внешнему миру, друзьям и родственникам, обществу, Левке… Левка — не общество, настоящий друг, он из самых лучших побуждений… Неважно, тем хуже. Нет, — должен был бы я ответить Левке, — нет, я не буду искать ходы, кого-то задаривать, упрашивать, побуждать к особому добавочному действию. Поверь мне, — должен был сказать я Левке, — я тоже кое-что в этом смыслю, не зря здесь сколько лет ошивался. Нет таких чудодейственных препаратов, которые из такого, как у нее, состояния могли бы вывести человека в жизнь. В жизнь, а не в нечто жизнеподобное, о котором иначе как о проклятье и думать немыслимо. Тромб мозговых сосудов, понимаешь, Левка, если не был вовремя удален хирургически в первые часы или даже минуты… А первые часы… Не будем об этом… Но тромб не был удален, а твердо ли ты уверен, что женщине лучше лежать пять лет безмозглым обрубком, не таким даже, как эта Плаксивая или как Чаем Облитая бабка, или как эта Гора Безличной гниющей боли… да даже таким же… Это лучше, чем без оглядки, «достойно», ты скажешь «послушно, без суетливого сопротивления — ринуться по течению в ожидаемый, неизбежный и вожделенный простор?..» — «Что ты несешь, какой простор? — испугался бы Левка. — Не позволяй себе, держи себя в руках. Ты хоть принимаешь что-нибудь поддерживающее? Тазепам, элениум, триоксазин, рудотель?.. И пойми, ты же сам себе не простишь. Тут принцип простой: надо делать как правильно, понимаешь? Надо — бороться!» И я бы понял, что мне легче бороться, чем спорить, и вернулся бы к исходной точке, как будто никакого разговора и не было. Его и не было.