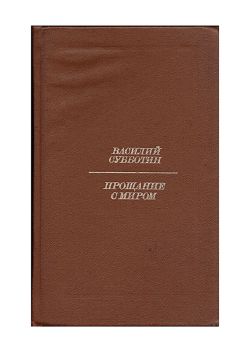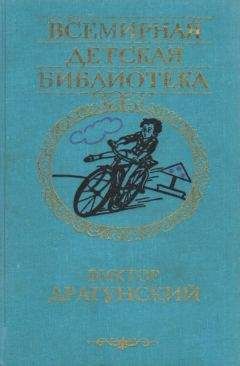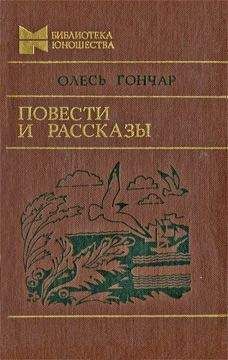Василий Субботин - Прощание с миром
Я тщательно осмотрел все вокруг, и, как мне показалось, веревочки на дверке были развязаны. Я оглядел мачту и всю оснастку: думал, он где-нибудь сидит. Нигде ничего.
Признаться, мне стало жаль его. Видимо, думал я, кто-нибудь из пассажиров, случайно увидев моего голубя и не зная, что у него есть хозяин, выпустил его из клетки или взял его себе… Я даже спрашивал у всех, не видел ли кто моего голубя. Но никто ничего не знал и никто ничего не видел.
Вечером того же дня мы пришли в голландский порт…
А может, голубь мой почувствовал близость берега?
В Голландии, хотя мы и были там недолго, но все-таки поездили по ее зелененьким польдерам, всходили на ее дамбы. И когда мы осматривали одну плотину, я поинтересовался-таки, где, в каком месте, герой-паренек засовывал свой пальчик, спасая страну. Но наш самодовольный, длинный голландец- гид — молодой, в рубчатых длинных штанах, который и без того иронизировал над всем, что мы ему говорили, — не верил, когда я говорил ему про этого мальчика. Он не верил, когда я ему об этом говорил, и даже насмехался. А я верил…
Он даже повторял, что никто в Голландии ничего не знает об этой истории, и спрашивал меня, когда это было.
Я хотел было сначала спросить, узнать у него про голубя, что за птица с кольцом, но я не стал этого делать. Во всяком случае, уж не он его пускал…
Долго еще, даже когда мы прошли уже Атлантический океан и шли Средиземным морем, очень многие, даже незнакомые, встретив меня на палубе, спрашивали, как он чувствует себя, мой голубь.
Алюминиевое кольцо с номером 842449… Довольно большой номер!
Надо бы мне хоть кольцо оставить…
По пути из Гавра в Париж
Мы перебирались из страны в страну, из страны с левосторонним движением в страну с правосторонним движением. Нам все было внове, все было интересно. Позади осталась благополучная, вся какая-то подчеркнуто ухоженная Швеция ярко-зеленая и низинно-ровная Голландия и обрывисто-крутые и неожиданно голые берега Англии. Наконец мы приехали во Францию, вернее сказать, пока еще в Гавр, откуда поезд должен был доставить нас в Париж.
Я сидел в вагоне движущегося с колоссальной скоростью поезда, сидел один. Не знаю уж, как так получилось. У меня сложилось впечатление, что поезд двигался полупустой, не могу сейчас объяснить, почему так вышло, но все куда-то рассеялись: то ли по другим купе, то ли по другим вагонам. Я сидел один в пустом купе, сидел и скучал, и уже потому, наверное, обратил внимание на это, что по стенам вагона, да не только по стенам, но и на двери, и даже на окне, наклеены были такие небольшие этикетки, плакатики, что ли, такие. Я как-то не сразу заметил их, потому, наверное, что больше смотрел на то, что проносилось передо мной за окном. Все-таки я впервые видел Францию так близко. Я не знаю отчего, может быть, потому, что стекла в окнах были цветные, теперь уже не помню какие, то ли зеленые, то ли голубые, все, что было за окном, и сама земля, и встающие на холмах замки, и поля, засеянные я не знаю чем, — все было окрашено в какие-то фантастические тона. Не отрываясь смотрел я на все, что открывалось перед моими глазами, не умея как следует все это объяснить, и в первое время не замечал того, что было в самом этом купе, в котором я сидел в таком одиночестве. В конце концов, когда солнце понемногу стало заходить за горизонт, я огляделся вокруг себя, вгляделся в одну из этих картинок, и вообще обратил внимание на то, что было вокруг, огляделся, осмотрелся.
Я долго разглядывал эти картинки, каждая из которых, повторяю, была с ладонь величиной, не более того, во всяком случае. Постепенно разглядывая, рассматривая эти картинки, я решил, что это самая настоящая реклама вин. Что же такое это могло быть еще! Обыкновенная реклама вин. В самом деле: на одной из афишек была нарисована бутылка, на другой — фужер с вином. Я все более заинтересованно разглядывал эти картинки, и чем дольше я их разглядывал, тем меньше я их понимал.
Между тем за окнами окончательно стемнело, и в вагоне загорелся свет.
На одной из остановок, по-моему, это было в Руане, ко мне в купе заглянул проводник, вернее даже сказать, переводчик, ездивший с нами. Он открыл дверь, желая, должно быть, удостовериться, есть ли кто в купе. Я попросил его войти и сразу приступил к расспросам. Мне страшно хотелось знать, что за странные плакатики были развешаны тут. Он довольно сносно говорил по-русски, и мне легко было объясняться с ним. Конечно, я сразу же высказал ему свое предположение, что, насколько я понимаю — это не более и не менее как реклама вин, не что иное, как реклама вин. Он очень удивился этому моему предположению. Он даже, как мне показалось, очень развеселился этим моим словам, захохотал даже.
— Реклама наоборот, — сказал он…
— Это — антиалкогольные плакаты, — продолжал он. — Сейчас во Франции идет неделя борьбы с алкоголизмом, вот почему эти плакаты и висят здесь…
Не помню теперь уже, как он сказал, то ли неделя, то ли декада. Не в этом дело. Может быть, даже месячник, совершенно этого не помню… Мне кажется все-таки, что он сказал — неделя, неделя борьбы, что ли.
Один из этих плакатов особенно заинтересовал меня. Он висел как раз напротив, на противоположной стене. На нем был нарисован налитый до половины, именно до половины, бокал вина. И рука, ограничивающая уровень, показывающая, что больше чем до половины лучше не наливать. Я, естественно, спросил, что означает этот рисунок и что написано под ним.
— Здесь сказано так, — перевел мне мой собеседник: «Пить хорошее, пить мало — значит иметь возможность пить долго».
Надпись, что и говорить, была замечательная, она мне очень понравилась.
Мы так переходили от одной афишки к другой. И псе они были по-своему интересны. Мне жаль, что я не переписал их все.
Среди других, заинтересовавших меня картинок, была одна, которая более других была непонятна мне. На ней было изображено лицо человека со странно знакомыми, как мне показалось, опущенными в рюмку усиками, и такая же знакомая, падающая на лоб мокрая прядь. Вместо носа у этого, изображенного на плакате человека, была нарисована красная ромовая бутылка. И без того все было ясно: на рисунке был изображен явный Гитлер.
— А при чем тут Гитлер? — спросил я. — Он ведь, насколько я знаю, не пил?
Переводчик помолчал, потом, подыскивая слова, сказал:
— Здесь он просто как отрицательный персонаж… Кроме того, существует такая легенда, может быть, анекдот даже, что Гитлер жив, но давно уже спился, сделался обыкновенным алкоголиком…
Все это было очень забавно.
Я так переходил от одного плаката к другому и узнавал много интересного.
Наконец, в углу, за шторой, которой должно было быть прикрыто окно, я увидел, разглядел, если хотите, даже разыскал, еще один плакат, совсем уж непонятный. Смысл его никак не доходил до меня.
На белом, застланном скатертью столе стоял стакан. На этот раз просто стакан, наполненный водой. Вокруг него сидели лягушки. Они сидели вокруг стакана, скрестив или, лучше сказать, сложив лапки, держа их молитвенно перед собой.
Я, естественно, поинтересовался тем, что было написано под этим совсем уже странным для меня плакатом, что все это означало и что могло означать.
— Это другое, — сказал мне тот же гид. Он даже замялся на минутку. — Это уже не отсюда, во всяком случае, сюда это не относится… Здесь написано, — сказал он через минуту, через мгновение: — «Воду пьют только лягушки»… Нет, даже так, — поправил он себя, — вернее даже будет сказать так: «Кто пьет воду — тот лягушка».
Мы посмеялись.
Это было действительно смешно. В самом деле: нельзя же пить одну воду. Во всяком случае, все ханжество такого рода пропаганды, как всякой другой пропаганды, я думаю, было снято этой шуткой, этой последней надписью под стаканом с обсевшими его, вымаливающими глоток воды лягушками…
До самого Парижа мы больше не останавливались.
МСЬЕ ЖОРЖ
По Парижу возил нас мсье Жорж. Мы иногда его звали просто Жоржем. В ресторане, когда мы обедали, мы старались посадить мсье Жоржа рядом с собой.
Был этот худенький парень из пригорода.
Мсье Жорж был еще очень молод. Кроме всего, он еще, что называется, был лихач. Громоздкий свой автобус он водил так, что воздух свистел за стеклами… Но всего лучше он тормозил. Тормозил он так, что мы разом все вдруг оказывались у него в кабине, а наши фотоаппараты, сумки и портфели летели нам на головы.
Наконец пришел день, когда мсье Жорж разогнался, а потом что-то случилось у него с машиной, она вдруг круто взяла в сторону и, внезапно скрежеща тормозами, встала поперек дороги.
Мы поднялись на ноги, трогая себя за носы. Послышался чей-то запоздалый, все еще дрожащий голос:
— Мсье Жорж, что вы делаете… Вы нас убьете!