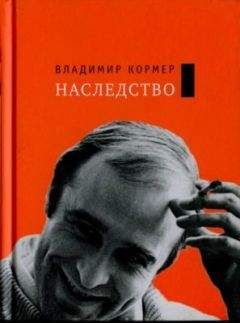Владимир Кормер - Предания случайного семейства
— Да, да, — соглашался Николай Владимирович и кричал Татьяне Михайловне: — Мать, взгляни, за какое число последнее письмо от Шурки?!
Татьяна Михайловна покорно лезла в комод, где в особой коробочке, среди обрывков старых кружев, шелковых лент и прочих остатков своего приданого и нарядов, хранила сыновьи письма.
— Зачем ты их туда спрятала?! — сердился Николай Владимирович. — Дай-ка сюда!
Но прочесть числа он все равно не мог: слезы застилали ему глаза; а впрочем, этого и не надо было, потому что он и так знал его наизусть.
Присутствие старшей дочери Анны мешало ему поверить в счастливый исход. Тем летом, под городом Омском, у нее умер муж. Анна всегда была скорей от природы печальна и славилась своей правдивостью; теперь перенесенное горе и совсем отучило ее притворяться. Николай Владимирович сравнивал двух своих дочерей и удивлялся сквозь слезы, откуда такая разница. Младшая, склонная к полноте блондинка, унаследовала неизвестно от кого в их фамилии практицизм, была бойка, отлично училась и порою пугала отца своим чрезмерным благоразумием. Анна была, как он сам, мечтательна и за свою жизнь навлекла немало огорчений сама на себя своею фанатической преданностью близким и почти сумасшедшей готовностью к самопожертвованию. В несчастьи, как знал это Николай Владимирович, ее качества были прекрасны и не было человека нужнее ее, но в обыденности ее любовь становилась тяжела, и все норовили ее избегнуть, с годами раз от разу заставляя Анну скорбеть о людской неблагодарности.
«Надо быть готовым к худшему», — читалось теперь на ее худом, суровом резковатом лице. «Ты знаешь, папа, — рассказывала она ему как-то, — я так и вижу перед собой этот сельский погост, край леса, поросший малиной, подсохшую землю, крест с чернильной надписью и увядшие уже цветы, в сердцевине у которых ползают какие-то черные лесные жучки… Так я все это помню…»
— Нет, папа, ты опять плачешь! — восклицала Катерина, становясь перед ним на колени и с силой отрывая его ладони от уткнутого в них лица. — Ты у нас прямо какой-то пораженец! Так нельзя. Давай вместе посмотрим карту.
Теперь уж Николай Владимирович покорно, как его жена минутами раньше, лез за картой. Первый раз Харьков был взят нашими войсками шестнадцатого февраля сорок третьего года. Далее, по смыслу сообщений Информбюро, немцам удалось, собрав на узком участке фронта до двадцати пяти дивизий, организовать контрнаступление в районе Донбасс — Харьков, после чего города Харьков и Белгород были временно оставлены. Вторично и уже окончательно их освободили в августе сорок третьего года.
— Представляешь, что там делалось в эти месяцы?! — Катерина взмахивала руками, изображая словно бы взрыв. Фразу эту неоднократно повторял, утешая жену, и сам Николай Владимирович.
Он кивал:
— Да, конечно, представляю.
— Видишь, и Елена Андреевна тоже говорит, что надо надеяться.
Елена Андреевна была мать одного из тех, чьи адреса прислал им сын; у нее бывали чуть не ежедневно. Впрочем, со всеми, чьи адреса были указаны в списке, виделись нынче очень часто — или договаривались встретиться, или случайно встречались в присутственных местах: военкоматах, управлениях, архивах, где часами просиживали вместе, ожидая ответа.
Чудно было то, что никто из них (их детей) не написал с конца января ни строчки, но и похоронная не пришла ни на кого. То ли вправду накрыло их одним снарядом в блиндаже, так что ничего и не осталось, и неясно было тем, кто разглядывал потом это место, были здесь люди или нет, то ли взяли их в плен; или же разорваны были они при штурме поодиночке — ничего не было известно. Кто-то предположил, что они могли попасть в окружение и оттуда уйти в партизаны, но по мере того, как освобождалась территория, и эта надежда исчезала. Но то и дело у той же Елены Андреевны или у кого-нибудь другого из списка появлялись новые идеи, либо их знакомили с новыми людьми, долженствующими помочь узнать что-то, и тогда снова оживали все надежды, снова все с нетерпением ждали весточки, звонили, забегали на минуту вечером и давали телеграммы тем, у кого не имелось телефона.
— Все будет в порядке, — повторяла Катерина. — Ты мне веришь? Ведь всегда, как я скажу, так и будет, а?
Николай Владимирович непроизвольно улыбался. Она обрадованно вскакивала на ноги:
— Вот видишь, вот видишь! Ты уже улыбаешься! Верь мне, все обойдется!
— Я тебе верю.
Успокоенная, она отходила к печке, греясь возле которой, твердила какое-то задание. Николай Владимирович тоже брал со стола книгу, но читать не мог.
— Ну, папа, папа! Что это такое?! Перестань сейчас же! — Катерина сама кривилась, готовая разреветься.
Николай Владимирович не выносил плача, женский плач в нем самом страгивал какую-то струнку, и он начинал чувствовать себя где-то на грани истерики. Поэтому и сейчас он не мог пересилить себя и, начиная истериковать, тихо шептал:
— Впустую все это.
— Нет, ты не смеешь так говорить! — ненатурально из-за присутствия Анны, которая, ей чудилось, осуждает ее, кричала Катерина. — Анна, почему ты молчишь?! Скажи что-нибудь. Нельзя же так. Он и маму всю издергал, и нас, и сам весь издергался!..
«О, я знаю цену твоему оптимизму!» — как бы про себя произносила одними губами Анна и выходила курить в коридор.
В начале той зимы, сорок третьего — сорок четвертого года, они жили еще все вместе, то есть Людмила с сыном жила с ними еще (Николай Владимирович с Татьяной Михайловной и с Анной — в первой, проходной, комнате, а Людмила с сыном и Катериной — во второй, по размеру меньшей; пятилетний Аннин сын жил неподалеку, у своей тетки по отцу), но в середине зимы положение изменилось, потому что Людмилин мальчик умер, не доживя и до двух лет.
Он вообще рос ребенком нездоровым, систематически простужался, кашлял и переболел, кажется, всеми болезнями. Он с трудом вынес и первую зиму; возможно, что постоянный холод действовал на него все ж благотворней, нежели то неоднородное и непостоянное распределение температур в комнатах, которое установилось, когда завезли дрова. У самой печки, где его купали, была жара, но из окон дуло по-прежнему, и стоило за ним недосмотреть, как он оказывался где-нибудь около окна или, лежа в постели, скидывал одеяльце, и все начиналось сначала, так что и сама Людмила, и Татьяна Михайловна заметно устали и нервничали, не предвидя этому конца. Николаю Владимировичу грезилось тогда, что, если б отец мальчика был жив, пусть и не близко, они все, и он в том числе, чувствовали бы какую-то ответственность или, лучше сказать, так объясняли бы себе особую необходимость заботиться о ребенке: вот вернется отец, а уж мы обязаны представить ему ребенка, как следует быть. Но поскольку известия от отца являться переставали и в сердце тайно заползала мысль о его смерти, то эта мистическая необходимость будто отпадала, звено за звеном, и мальчик оставался как бы лишен покрова и никому не нужен — ни своей матери, потому что оказывался для нее лишь обузой, завещанной ей человеком, которого она едва знала и мало любила, ни бабке с дедом, ибо был еще слишком мал, чтобы походить на их сына, чтобы они могли узнавать в нем уверенно милые черты и чудесно передавшиеся ему, никогда не видевшему отца, отцовые привычки. К тому ж у них был другой внук. Конечно, если б сын вернулся, все было бы по-другому: и невестка примирилась бы со свекровью; и свекровь, хоть и бранилась бы, будучи вспыльчивой и несдержанной на язык, но души не чаяла бы в маленьком; и дед радовался бы внуку и, искупая вину свою перед его матерью, баловал бы его, любя, быть может, даже больше своих детей, видя в нем преемника рода, продолжение своей жизни. Но сына не было, невестка как будто виновата даже была в его гибели (от этой мысли Стерховы так и не ушли), из-за нее якобы он лез под пули и сумасбродствовал, желая забыться, и внук лишился для бабки с дедом всякой прелести.
Незадолго до Нового года, вечером, Людмила собиралась куда-то идти. И она сама, и свекровь считали всякий раз это чем-то криминальным, чем-то вроде измены. Возбужденная донельзя, Людмила прихорашивалась и мазала губы в большой комнате перед зеркалом, хотя тут было темно, но она ждала, не заговорит ли с ней Татьяна Михайловна, тут строчившая на машинке и искоса взглядывавшая на нее.
Татьяна Михайловна и точно не выдержала первой:
— Уходишь? — она придержала рукой колесо машинки. — А с ребенком кто останется?
Невестка сделала такое движение, словно хотела подойти к столу и повиниться, но не ступила и шагу как, покраснев под пудрой пятнами, сорвалась:
— Я не какая-нибудь!.. Я ребенка с собой возьму!..
В гостях было жарко. В крохотной комнатке набилось много народу, сидели друг у друга на коленях. Мальчик лежал тут же, на кушетке, за спинами. И когда из душного, прокуренного помещения его вынесли на мороз, под ветер, он простудился.