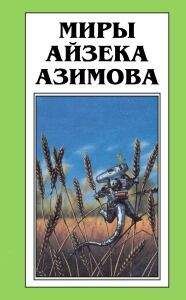Павел Паутин - Дом с закрытыми ставнями
Ванюшка прыгнул с крыльца и был таков. Мать продолжала хлестать меня.
ВАНЮШКА НЕ БОИТСЯ
Утро. Я пошел на кухню завтракать. Дверь в комнату отца была приоткрыта. Я не любил сюда заглядывать, да и отец не очень–то приваживал меня, а тут вдруг что–то меня вроде толкнуло, и я вошел к отцу.
Отец, сидя за столом, читал газету. На краю стола лежали какие–то документы, справки, письма и стопа баптистских журналов. На чугунном письменном приборе стоял Моисей, точно такой же, как в «Истории средних веков». Я принялся разглядывать книги на полке.
Разве у вас в школе не учат здороваться? —- спросил отец.
С миром, пап, — проговорил я.
С миром приветствую, сынок, — ответил отец. И удивил меня, пригласив к столу: —Садись.
Такого еще не бывало. Я робко присел на краешек кресла.
Что скажешь? — спросил отец, отложив газету.
Да просто попроведать зашел.
Хорошо, что ты отца родного не забываешь. Ты не сердись, что я тебя высек. Чего ты под горячую руку полез? Я же одного Ванюшку хотел наказать. Так не будешь сердиться?
Я утвердительно мотнул головой.
Посиди–ка, я сейчас, — отец вышел из кабинета.
А я тут же выдвинул ящик стола. Он уже давно
манил меня. В нем лежала пачка денег. В уголке ящика я увидел круглые печати и штемпельную подушку в железной коробочке. Печати меня заинтересовали. Я взял одну из них, подул, как это делал отец, и шлепнул на чистый листок бумаги. По окружности было написано «Всесоюзный совет евангельских христиан–баптистов», в центре крест, а под ним овалом крупные буквы: «ВСЕХБ». Я положил печать обратно и вытащил членский билет. Раскрыл его я увидел фотографию отца. Правый нижний угол захватывала точно такая же печать. Черными чернилами красиво написано: «Кудрявцев Никифор Никандро–вич является членом Всесоюзного совета евангельских христиан–баптистов. Москва. 1950 г.»
Загремели под сапогами отца ступеньки. Отец зашел в кабинет с берданкой, с патронташем, с банкой пороха и с дробью в мешочке.
Держи, тебе, — отец положил ружье на стол.
Никогда отец не дарил мне ничего. А сегодня вот… Что это с ним?
Я прижал драгоценный подарок к груди, схватил припасы и, еще не веря случившемуся, хотел было идти.
Постой, — сказал отец. — Держи, — и он, вынув из стола сторублевку, сунул ее мне в карман.
Ой, пап, спасибо тебе, спасибо!
Не помня себя от радости, я заскочил к себе в комнату, положил ружье на кровать и — к Ванюшке. Но его каморка оказалась пустой. Тут появилась сестренка Лиза. Она сосала конфету.
Что, Лиза–подлиза, опять за ябеду конфету получила? — спросил я. — А мне отец ружье подарил!
Возьми меня на охоту! — попросилась Лизка.
А ябедничать будешь?
Не. Я тебе даже половину конфет отдам, — она полезла рукой в кулек.
Не пойдет, все отдавай.
Ладно, только себе чуточку оставлю.
Поклянись!
Клянусь, — Лизка опустилась на колени и добавила : — Как перед господом клянусь!
Беру, жди. Только не вздумай ружье трогать. Сядь на табуретку и сиди смирно–Ладно.
Ваньку не видела?
Рыбу известкой глушить пошли.
Тогда идем без него. Давай конфеты.
Лизка нагребла карамельки в горсть и сунула их в мой карман. Высыпая конфетки, она вдруг нащупала там сторублевку и выдернула ее.
Ага, своровал?! Мама! — Лизка побежала вниз по ступенькам, я за ней.
Мама, Пашка деньги у отца своровал! — завопила Лизка, вбегая на кухню. Она спряталась за спиной матери.
Не трожь ее! — топнула на меня мать. — Сознавайся, украл?
Нет. Отец ружье подарил и сто рублей. Пойдем спросим, если не веришь.
Ну, смотри, — мать взяла у Лизки сотню и пошла к отцу.
Отец отдал мне сотню обратно.
Ну, Лиза–подлиза, погоди! — пригрозил я сестре.
А я думала, что ты своровал, — оправдывалась сестренка.
А клятву кто давал? У–у, подлиза!
Я хотел уйти, но мать остановила меня.
Много у отца денег? — шепотом спросила она.
Много, в столе они.
Мать тихонько заплакала. Мне стало жалко ее. И почему отец дает ей мало денег?» — подумал я и отдал свою сотню.
Я ушел на берег речки Сухой. Летом она узкая, ее можно перейти вброд, но весной она разливается бурным потоком. Я сидел в камышах у светлой, струистой заводи и слушал плеск воды. В таких заводях много ужей. То и дело они, извиваясь, проплывают в прозрачной воде. На макушку сухой камышины села голубая стрекоза и замерла. Большие коричневые стрекозы носились над рыжими метелками камышей, похожими на лисьи хвосты. Словно конькобежцы по льду, скользили из стороны в сторону жуки–водомеры. Комком глины скатилась в воду, преследуемая ужом, водяная крыса. Но тут же ее схватила щука. Две утки шлепнулись на воду. Я взял берданку. Утки ныряли за мальками рыб. И вдруг одна из них забилась на воде. Кто–то схватил ее за голову, тащил в омут, а она хлопала крыльями. Наконец ушла под воду и всплыла уже с оторванной головой. Должно быть, с ней расправилась зубастая щука…
Я завороженно следил за жизнью и борьбой в этой заводи.
Только поздним вечером, убив одного нырка, вернулся домой. Во дворе меня встретили Ванюшка и Оашка Тарасов. Увидев ружье да еще убитую утку, они пришли в восторг.
Давайте, ребята, сколотим плот и — вниз по Оби! — предложил брат. Чтобы не попасть на глаза родителей, мы спрятались в бане.
Вот что, надо отомстить одноглазой ведьме, — заговорил тихонько Ванюшка. — Сегодня же ночью выдерем все огурцы у тетки Ивановны. Это она сказала матери, что мы были в кино.
Не надо воровать — грех, — возразил я. — Лучше что–нибудь другое придумаем.
Грех! — Брат соскочил с полка, на котором они сидели с Сашкой. — Все грех да бог, мелешь одно и то же!
По узкому проулку мы добрались до большого огорода проповедницы. Прислушались. Никого. В лесхозе ударили один раз о рельсу, и все стихло.
За мной! — тихо скомандовал Сашка и махнул через изгородь. Мы за ним. Сашка упал на грядку,, прокатился по ней, прошептал: — Получай, ведьма!
Ванюшка выдирал огурцы вместе с корнями. Я, озираясь и прислушиваясь к темноте, сорвал несколько огурцов и сунул их за рубаху. Не дай бог, если нас захватят сыновья Ивановны — убьют!
В бане мы зажгли лампешку. Ванюшка и Сашка, вывалили из–за пазухи огурцы на полок. Пожалуй, полное ведро бы набралось.
Ну, а ты чо? — недоумевающе посмотрел на меня брат.
Да у меня мало, — сказал я и выложил в общую кучу штук шесть кривых огурчшпек.
Эх ты, раззява, с тобой с голоду сдохнешь, — проговорил Ванюшка.
Хотя огурцы и были вкусными, ел я их без аппетита. Страх перед господней карой не оставлял меня. А Ванюшке с Сашкой было плевать на всякую кару. Они звонко хрумкали и хохотали, вспоминая о вылазке. Спать мы легли на сеновале. Я долго думал, почему брат не боится грешить. Хотел всей душой быть таким же, как он, но бог как бы осуждающе смотрел на меня с неба и грозил пальцем…
ПРОЩАЙ, СТРАХ!
Помню, пришел я к Проньке Редько перед тем, как нм уехать на Украину. Я редко ходил к ним, а тут приплелся к нему, и никогда себе этого не прощу. Мне очень захотелось пойти в кино. На афише у клуба было написано непонятное, таинственное слово «Мамлюк». Так называлась кинокартина. Ванюшки дома не было, Сашки Тарасова тоже. А идти один я побоялся. Вот и решил позвать Проньку. Его мать, костлявая Ага, варила пельмени, а Пронька терпеливо ждал их, шумно вдыхая вкусный запах.
Пронь, иди сюда, — позвал я его, сунув голову в приоткрытую дверь.
Пронька лениво встал и вышел ко мне.
Пойдем в кино? — зашептал я. — Какой–то — «Мамлюк» идет.
Но–о… Интересное?
Все хвалят.
Ладно, идем.
А ты бога не боишься, Пронь?
Бога? — Пронька ухмыльнулся. — Да я уже несколько раз был в кино. Папка говорит, что в этом нет большого греха. Когда я вырасту, тогда и буду учиться ка проповедника.
Я был поражен ответом Проньки. Как же так, Проньке можно в кино ходить, а мне отец запрещает?
Так, значит, идем? — еще больше загорелся я и вдруг с досадой вспомнил, что у меня нет денег. — Пронь, а ты мне займешь рубль? Я тебе отдам.
Мы скоро уедем. Как ты мне отдашь?
Ну, тогда я пошел, — расстроенный пробормотал я.
Постой! Если не успеешь отдать, ты мне в письме вышлешь. Я тебе адрес дам.
Я согласился, и мы зашли на кухню. В тарелке–уже дымились пельмени. Пронька сразу же подсел к ней и с жадностью начал есть. У меня потекли слюнки. Ага наложила пельменей еще в одну тарелку.
Садись, — буркнула она и раздраженно пихнула к столу табуретку.
Я, конечно, сел, но после такого приглашения пельмени потеряли для меня всякий вкус.
На пороге появился сам Евмвн. Увидев меня, он разозлился:
А этот зачем здесь? Небось, его отец не здо–рово–то меня привечает.
Да не объест, чего ты? — проворчала Ага.
Евмен подошел ко мне и бесцеремонно, за ухо вывел за дверь.
И чтоб я не видел тебя здесь, — пристращал он.
Пораженный, униженный, полный ненависти, я, всхлипывая, бежал домой. «Гад! — кричал я в душе. — И Пронька гад, даже не заступился. И все баптисты гады! За что он меня так не любит? Что я ему сделал плохого?»