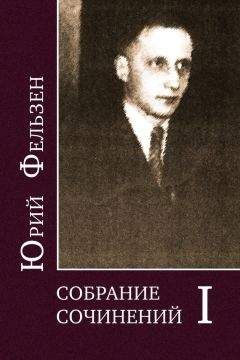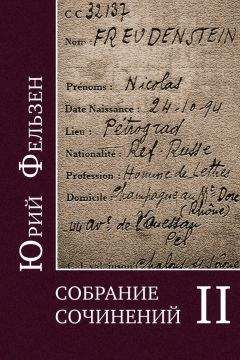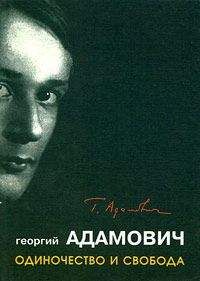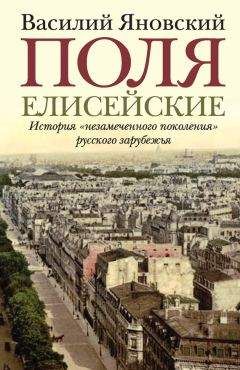Юрий Фельзен - Собрание сочинений. Том I
10 декабря.
Мое дело как будто закончилось: если бы я не был так подозрителен – из-за многих неудач, случившихся после уверенности, после явного достижения, приписанных дурной судьбе и потому особенно обидных, – я бы считал, что сомнений уже не осталось и что завтра утром надо только пойти за деньгами. Но сейчас, после всего опыта, мне кажется, будто цель еще не достигнута, будто дело мое затянулось и решится лишь завтра, в ту минуту, когда получу деньги, а пока надо снова отложить школьническую радость об удавшейся и конченной работе, о предстоящем отдыхе, другую радость, впервые беспримесную, беззаботную – о Леле – и надо как-нибудь провести этот еще на прежние похожий день.
Продолжаю себе отказывать в каждой мелочи, пью в кафе вместо ликера всё то же надоевшее пиво, хотя нет у меня более верного способа не замечать времени, чем быстрое оглушающее опьянение, и хотя знаю наперед, до чего легко и беспечно буду тратиться с завтрашнего утра. Правда, я никогда не делаюсь совершенно широк и нерасчетлив – у каждого из нас свои неписаные правила, свой растяжимый, от обстоятельств зависящий предел трат – у меня он как-то слишком благоразумно связан с продолжительностью результата: мне покажется естественным быть целый вечер в дорогом месте и не поехать домой в такси, потому что поездка произойдет мгновенно и уже в начале осязателен ее конец. Но и это не совсем точно: я боюсь и «полезных покупок», казалось бы, надолго выгодных – у меня страх «больших цифр», свойственный людям без равномерного и обеспеченного заработка, тем, кого «большие цифры» чересчур наглядно приближают к безденежью, к растерянному вопросу, им давно знакомому: как же быть дальше.
Но весь этот строгий «кодекс» (менее последовательный, чем здесь представлено) бывает отброшен и забыт, как только я не один: от чьих-нибудь случайных слов, от неожиданной жалобы у меня соблазн помочь, растрогать, на прощанье дать уверенность в опоре, притом не выдуманной, а доказанной – во мне за годы уединения вдоволь скопилось нерастраченной глухой нежности, и часто она направлена на людей, со мною схожих, но более моего беспомощных, и несравнимо чаще – на женщин, хоть немного нравящихся. С этим же, вероятно, связана и другая, близкая, причина неразумной моей расточительности: у меня несчастливое свойство чересчур зависеть от женщин – еще гимназистом на балу я не мог после танца «сплавить» приглашенную скучную барышню и ждал освобождения от нее самой, чтобы не только радоваться свободе, но и сладко себя, обиженного, жалеть (этим как бы предвосхищая любовное свое будущее) – и теперь, наконец, достигнув безразлично-взрослой неуязвимости, если нечаянно в кафе заговорю с накрашенной простенькой соседкой, не решусь подняться, уйти, внезапно ее разочаровать, и должен непременно по-наивному на нее тратиться.
Так было и сегодня: я почти против воли, полурассеянным жестом, пригласил к своему столику в дешевом оживленном кафе краснощекую девочку, бойко игравшую с подругами в карты, когда же она подошла, с трудом оторвался от воображаемого романа, обыкновенно заполняющего спокойные мои часы, кое-как стал поддерживать обязательный условный разговор, потом растрогался из-за одного выражения (мне показалось, достойно и мило произнесенного), захотел помочь, но сразу вспомнил, что невозможно, что отнимаю только рассчитанное нужное время, и всё это я с неловкостью объяснил.
Фраза, меня удивившая, в сущности была обычной (на вопрос о друге – «Non, je me defends toute seule»), и, быть может, самый тон превратил ее и в достойную и новую, но что-то есть недоступноизысканное в готовой парижской скороговорке, уравнивающей все круги (кроме разве «интеллектуального», как и большинству русских, мне неизвестного) и настолько их сближающей, что немногим отличается от недавней моей приятельницы тот веселенький, богатейшей семьи, старичок, от которого зависит мое дело и который при каждом упоминании о беженских наших несчастиях, о шоферах-гвардейцах, о титулованных манекеншах, негодующе-горестно восклицает: «ai, ai, ai’ quel cataclysme» – и возможность такого сопоставления (прирожденнобогатый барин и девочка с улицы) и чудо, что девочка с улицы в себя впитала эти ловкие обороты и безошибочный, никогда не сбивающийся тон, меня поневоле озадачивают и трогают.
Перечитываю сегодняшнюю страницу и поражаюсь – в который раз, – до чего написанное мной, от упорной погони за точностью, сильнее и резче подуманного, увиденного, как мало соответствует такая «точная» запись (хотя и добросовестно-верная, но сгущенная тяжестью слов и непонятным моим упрямством) первоначальному расплывчатому наблюдению. Правда, есть и совсем неотмеченное – и среди другого тот воображаемый роман, о котором впервые пишу, о котором мне странно думать привычными, что-то обозначающими словами – настолько весь он поверхностно-легкий, бессловесный, невоплощенный. Я придумал его в шестнадцать лет, когда только появились у меня нетерпеливые завистливые предчувствия и еще не прибавилось опыта, убивающего ставшее ненужным воображение, и с какой-то упрямой вялостью протащил через всю молодость, через приключения, как у каждого необыкновенные, лишь немногое от начала переменив по своим последующим желаниям и надеждам. Я годами себе рассказываю те же самые приятные подробности в редкие спокойные часы, отдыхающие от делового шума, от любовных забот и припоминаний: этот «роман» – мой отдых, всегда разряжение и бессознательность, и оттого не слышу, не замечаю слов, не улавливаю даже кончика фраз и, во что-то погруженный, блаженствую: ведь рассказываю о себе, каким хотел бы сделаться, каким незаметно становлюсь.
Эти гладкие знакомые подробности, полугрустное их спокойствие чередуются с волнением о Леле, неподдельность которого сразу распознаю и которое ко всему примешано, что бы за день у меня ни происходило: им обостренно задеваются и «роман», и денежная глупая лихорадка, и на улице рассеянное любопытство, и дома зачитанные стихи, сладко укачивающие или неожиданно ранящие – и каждое дневное ощущение так же естественно меня к Леле приводит, как трудно от него же оторваться для уточняющей и скучно-расчетливой записи, которая сегодня мне кажется (может быть, из-за Лелиного приближения) особенно мертвой и сухой.
11 декабря.
Деньги сегодня утром получил, и они, избавив меня от унизительной противной беготни, от необходимости себя по-нищенски ограничивать, от злой и жалкой, в случае неуспеха, горечи, от всего неприятного и скучно-отвлекающего – эти деньги как бы приоткрыли и показали мне Лелю. Я благодарный, даже намеренно благодарный человек – ведь лучше, достойнее, просто выгоднее долгими днями радоваться удаче, чем еле-еле, высокомерно, ее отмечать – и я нарочно себе не раз напоминаю, что вот по-спокойному хорошо (если изредка – хорошо), насколько могло быть хуже, какие обойдены препятствия, какие опасности случайно не помешали. Мне также хочется себе доказать, что эта радость – не облегченный вздох неврастеника после томительно-вялой и как-нибудь законченной, наполовину брошенной работы, а то справедливое удовлетворение, которое нам дается заслуженно-достигнутым успехом – и что если бы сейчас возникло внезапное новое препятствие, я был бы опять готов немедленно работать и бороться. Последнее даже верно, но готовность бороться и работать у меня волевая – против природного отвращения ко всякому труду или борьбе, а радость окончания, оглядки как раз неврастенически-ленивая, и всё добросовестное мое упорство – вероятно, лишь следствие самоуважения, кровной потребности что угодно (как будто напоказ) совершенствовать, унаследованной привычки лояльно и безропотно подчиняться любому долгу или порядку, хотя бы и навязанному извне.
Не заходя домой, я сейчас же отправился по всем нужным мне магазинам – раньше, до денег, чтобы себя понапрасну не дразнить, ни за что не останавливался у витрин, недоступных и чересчур соблазнительных, сегодня же, как только ушел из «бюро», где веселенький старичок ласково передал мне приготовленный конверт с чеком, я сразу стал высчитывать, сколько на что истрачу, приспособлять цифры, сменяя одно решение другим и себе лишний раз доказывая, что могу произвольно выбирать – я действительно составил полуигрушечную (но всерьез) смету, аккуратно ее придерживался и потом торопясь уносил бесчисленные свои пакеты с собою, чтобы всё вместе поскорее разложить. Дома каждая купленная вещь мне представилась чудом вкуса (как нам кажется необыкновенным всё то, на чем имеется след нашего выбора, случайного предпочтения, самых легких наших усилий и к чему мы немедленно теряем и чутье, и спокойное беспристрастие), и каждая такая, со вкусом выбранная, себе подаренная вещь неожиданно меня с Лелей сближала – я выбирал ради нее одной и вот во всем, даже в этом (а не только умственно или душевно) оказался ее достоин.