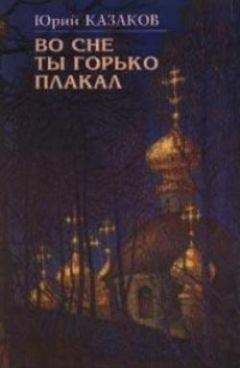Юрий Казаков - Во сне ты горько плакал (избранные рассказы)
Становилось холоднее с каждым днем. Тэдди теперь спал много и ходил редко. По утрам маленькие озера и старицы затягивались звонким ледком. Голод, всегдашний руководитель Тэдди, отступил вдруг на задний план, что-то другое все сильнее беспокоило его. В цирке Тэдди не давали спать зимой – он должен был выступать, но здесь он подчинялся лесным законам. Он хотел спать. Он все ходил, словно примериваясь, но все казалось ему то неудобно, то открыто.
Однажды ночью выпал снег, и утром было бело, далекие холмы просвечивали как сквозь дымку, и Тэдди еще сильнее захотелось спать: даже собственные следы на снегу не удивляли его. Раз он устроился под елкой на сухих листьях и проспал три дня, но потом проснулся и снова побрел куда-то, с тоской поглядывая на оживленных, черных на белом снегу ворон.
Наконец он нашел то, что было ему нужно. Это была глубокая яма, засыпанная палым листом и хвоей. Сверху она заросла кустами, кроме того, на нее как раз повалилась спиленная ель. Ель когда-то спилил человек, отпилил себе верхушку, а комель оставил. Хвоя с лап осыпалась в яму, но лапы и без того были так густы, что когда Тэдди забрался под них, он почти не увидел неба. Но ему все было нехорошо. Он опять вылез, стал таскать и наваливать сушняку сверху и только к вечеру залез внутрь. Там он ворочался долго, никак не мог лечь, чтобы было удобно, наконец улегся, и ему показалось, что хорошо, и он начал вылизываться. Понемногу темнело, шел неслышный снег, и когда совсем стемнело и снег на вершинах сосен потерял свои последние лиловые краски, Тэдди уснул.
Что снилось ему?
Снился ли цирк и долгая жизнь артиста, разделенная как бы надвое темнотой коридора и ослепительным светом манежа? Снились ли переезды, вагоны, стук колес, запахи угля и бензина, люди, смеющиеся и яростно кричащие, и человек в белых панталонах?
Или снилась, новая, свободная жизнь, сладкие муравьи, звенящие холодные ручьи, страшная гроза, медведь, прогнавший его, битва с лосем?
Снилось ли ему детство? Прилетали ли к нему в берлогу нежные, зовущие, мудрые запахи леса?
Кто знает!
Он не проснулся ни на другой день, ни на третий... Снег все сыпал, и с каждым днем пушистей становились кусты, непролазней тропы, белее сосны и ели, и только березы оставались голые, и на них подолгу засиживались вечерами тетерева. Ударили лютые морозы, и пошла гулять по лесам настоящая русская зима!
А сон Тэдди становился все глубже, дыхание было все реже, пар уже не клубился над ямой, и скоро заваленную снегом берлогу можно было угадать только случайно, по небольшой отдушине-жерлу и желтоватому инею на сучьях.
1956
НИКИШКИНЫ ТАЙНЫ
1
Бежали из лесу избы, выбежали на берег, некуда дальше бежать, остановились испуганные, сбились в кучу, глядят завороженно на море... Тесно стоит деревня! По узким проулкам деревянные мостки гулко отдают шаг. Идет человек – далеко слышно, приникают старухи к окошкам, глядят, слушают: семгу ли несет, с пестерем ли в лес идет или так... Ночью белой, странной погонится парень за девушкой, и опять слышно все, и знают все, кто погнался и за кем.
Чуткие избы в деревне, с поветями высокими, крепко строены, у каждой век долгий – все помнят, все знают. Уходит помор на карбасе, бежит по морю, видит деревня его темный широкий парус, знает: на тоню к себе побежал. Придут ли рыбаки на мотоботе с глубьевого лова, знает деревня и про них, с чем пришли и как ловилось. Помрет старик древний, отмолят его по-своему, отчитают по древним книгам, повалят на песчаном угрюмом кладбище, и опять все видит деревня и вопли женок принимает чутко.
Никишку в деревне любят все. Какой-то он не такой, как все, тихий, ласковый, а ребята в деревне все «зуйки», настырные, насмешники. Лет ему восемь, на голове вихор белый, лицо бледное в веснушках, уши большие, вялые, тонкие, а глаза разные: левый пожелтей, правый побирюзовей. Глянет – и вот младенец несмышленый, а другой раз глянет – вроде старик мудрый. Тих, задумчив Никишка, ребят сторонится, не играет, любит разговоры слушать, сам говорит редко, и то вопросами: «А это что? А это почто?» – с отцом только разговорчив да с матерью. Голос у него тонкий, приятный, как свирель, а смеется басом, будто немой: «гы-гы-гы!» Ребята дразнят его: как чуть что, бегут, кричат: «Никишка-молчун! Молчун, посмейся!» Сердится тогда Никишка, обидно ему, прячется в поветь, сидит там один, качается, шепчет что-то. А в повети хорошо: темно, не заходит никто, подумать о разном можно, и пахнет крепко сеном, да дегтем, да водорослями сухими.
Стоит конь оседланный возле Никишкиного крыльца. Грыз плетень, щепал крупным желтым зубом; надоело ему, глаза закрыл, голову свесил, осел, ногу заднюю поджал, только вздохнет другой раз глубоко, ноздри разымутся. Стоит конь, дремлет, а деревня знает уже: собрался Никишка к отцу на тоню ехать за двадцать верст по сухой воде, мимо гор и мимо леса.
Выходит Никишка с матерью на крыльцо. Через плечо киса, на ногах сапоги, на голове шапка, шея тонкая шарфом замотана: холодно уже, на дворе октябрь.
– Ступай все берегом, все берегом, – говорит мать. – В стороны не сворачивай, будут тебе по пути горы. Проедешь ты эти горы, а там тебе тропа сама покажет. Тут близко, не заблукай гляди-дак... Двадцать верст всего – близко!
Никишка молчит, сопит, мать плохо слушает, на коня лезет. Взбирается на седло, ноги в стремя, бровки сдвигает...
– Но-о!
Тронулся конь, просыпается на ходу, уши назад насторчил, хочет понять, что за седок на нем нынче. Закачались мимо избы, подковы по мосткам затукали: тук-ток. Кончились избы, высыпали навстречу бани. Много бань – у каждого двора своя, – и все разные: хозяин хорош – и банька хороша, плох хозяин – и банька похуже. Но вот и бани кончились, и огороды с овсом прошли, блеснуло справа море. Конь по песку захрупал, по сырым водорослям. На море косится, глаз выворачивает, не любит моря, хочет все левее забрать, подальше от воды. Но Никишка знай себе подергивает за правый повод, знай пятками по бокам коня колотит! Покоряется конь, по самому краю воды бежит, шею согнул, пофыркивает.
Недалеко от берега – камни. Их много, обнаженных отливом, они черны и мокры. Там, возле камней, разбиваются в пену волны, вскипают белыми бурунами, глухо, бессильно рокочут. Здесь, возле берега, совсем тихо, светлое дно видно, вспыхивают искры перламутровых раковин и пропадают, лижет песок прозрачная волна. Сидят на камнях чайки, сонно смотрят в море. Потихоньку слетают, когда Никишка близко подъедет, скользят стремительно над самой водой и вдруг – крылья вверх, хвост веером! – садятся на воду. Сильно светит низкое солнце, блестит под ним море и кажется выпуклым. Длинные мысы плавают впереди в голубой дымке, будто висят над морем.
Смотрит Никишка вокруг, сияет разноглазьем, в улыбку губы распускает. Глядит на солнце, на выпуклое, огненное море, смеется:
– Солнушко, гы-гы-гы!..
Перелетают вдоль берега кулички, кричат печально и стеклянно. Качаются на высоких ножках у моря, бегают у самой воды: волна отойдет, они по мокрому за ней, волна обратно, и они назад.
– Кули-кули... – лопочет Никишка, останавливает лошадь, смотрит, какие они подбористые, с клювами, как шило.
А чего только нет на песке у моря! Вон красные мокрые медузы, оставшиеся после отлива, похожие на окровавленную печенку. Есть медузы другие – с четырьмя фиолетовыми колечками посередине. Есть и звезды морские с пупырчатыми, искривленными лучами, а еще – следы чаек, долгие, запутанные, тут же помет их сиренево-белый. Лежат грудами водоросли, тронутые тлением, тяжело и влажно пахнут. А то еще след босой ноги тянется у самой воды, сворачивает к лесу, топчется возле странной, вросшей в песок темной коряги. Кто это шел? Куда шел и зачем?
А слева все бревна да бревна: белые, вымытые дождями и волнами, выбеленные солнцем, промороженные и вновь прогретые, высушенные. Слышал Никишка, много лет тому назад на большой реке Двине запань прорвало. Весь лес, который был, в море убежал, не могли его поймать, а море выкинуло по берегам. Лежит с тех пор тут лес, никто его не берет, никому не нужно, рыбак разве только да охотник редкий – на костер...
Весело Никишке. А конь все копытами хрупает да фыркает. Ступит иногда с маху на медузу, разбрызгается она по песку, как редкий камень драгоценный. Пусто впереди, пусто назади, пусто слева, пусто справа. Справа море, слева лес. А в лесу что? В лесу вереск да сосны кривые, маленькие, злые, да березы такие же. Еще в лесу ягоды есть сладкие: брусника да черника. И грибы: маслята липкие, рыжики крепкие, сыроежки с пленочкой, с торчащими на шляпках сосновыми иглами. Медведи в лесу ходят и другие звери, а птицы совсем нет, рябки одни тонко перекликаются. Дед Созон говорит: «Отлетела чегой-то птица. Бывало, побежишь с пестерем-то в лес, полон пестерь набьешь-дак. А ныне отлетела чегой-то птица, бог с ней, совсем ушла!»
Выбегают из лесу в море реки большие и маленькие. Через большие реки мосты положены. Мосты сгнили уже, нюхает конь бревна, слушает, как внизу вода вызванивает. Ступнет шаг, шею выгнет, назад оглядывается.