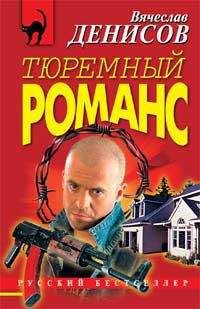Анатолий Маркуша - Завещание грустного клоуна
С годами ночные ужасы отступили, не исчезли — приутихли, стушевались. Видать, природа позаботилась — человек не смог бы исполнять своего земного предназначения в постоянном оцепенении от черных мыслей.
И странное дело, стоило только приобщиться к авиации, казалось бы, приблизиться к возможности закончить бренное свое существование задолго до старости, как страхи ушли куда-то далеко в сторону, провалились вглубь сознания. А ведь пережить пришлось такого…
На авиационном празднике в Тушино парашютист покидает борт У-2 и падает, падает, падает, не раскрывая парашюта, пока не впечатывается в землю. Кошмарный мокрый шлепок — и нет человека, а праздник продолжается…
Годы спустя выруливаю на взлетную полосу. Мой грациозный истребитель Ла-15 чуть-чуть пританцовывает на бетоне, когда я вдруг вижу — окутанный черным дымом к земле валится четырехдвигательный туполевский корабль, видно — пилот тянет из последнего, пытаясь сесть поперек аэродрома, но не судьба — машина под углом втыкается в землю, и костер разгорается в полную силу. А в это время диспетчер запрашивает по рации: «Чего встал? Давай на ВПП! Задерживаешь работу». Казалось бы, так с чего бы убавиться страху? А если еще вспомнить…
Забайкалье. Зима. Морозы дикие. Летаем (и это в открытых кабинах) до температуры минус пятьдесят градусов! В такие дни один из наших ребят, срочно вводившихся в строй, сломал руку в спортзале. Полковой врач запаниковал и настаивал на немедленной эвакуации пострадавшего в госпиталь. Погода неважная. Бездорожье. До госпиталя километров сто с хвостиком. Командир эскадрилий принимает решение лететь на УТИ-4, двухместном учебно-тренировочном истребителе, родном брате И-16. Командир летит сам. Радио средств на борту никаких. 1941 год.
До госпиталя долетел благополучно, пострадавшего сдал с рук на руки госпитальным врачам. Примерно через час вылетел — телеграфное подтверждение на сей счет пришло, а он не прилетел. И пурга ко всему еще поднялась в атаку, и видимости почти никакой. Ждали, искали, весь его маршрут туда и обратно прошли на лыжах… лишь весной, когда снег немного осел, обнаружили на границе собственного аэродрома торчащий над блестящим настом темно-зеленый кончик киля. Принялись копать. Прежде, чем освободили почти целую машину, отрыли голову командира, отделенную от туловища.
Такой опыт вроде бы должен нагнать страха. Но нет… Почему же? Долго и много думал над этим, прежде, чем, кажется, понял. Человек летающий тем и отличается от пешехода, что ему дано постоянно преодолевать смерть, если можно так сказать, убивать костлявую, душить ее собственными руками. Ты — победитель, понятно, пока жив, и в этой профессиональной способности одерживать верх над смертью кроются корни нашего оптимизма. Не знаю, кто первым доказал: летчики не погибают, они, случается, не возвращаются из полета, но в одном не сомневаюсь, он был настоящим пилотягой, преданным нашему ремеслу.
К сожалению, с очень большим опозданием мне довелось близко узнать одного из заслуженнейших пилотов-полярников, как он сам себя иронически именовал, «окрыленного крестьянского сына». Был он не прост, умел себя подать, держался строго и с достоинством. Обращало на себя его медно-бурое и в зиму и в лето всегда обветренное лицо. Много лет он жил Арктикой, Антарктидой и снова Арктикой. Летал практически на всем, что только могло держаться за воздух. Когда же его списали с летной работы врачи, старательно пытался описать свою жизнь, чтобы молодые могли воспользоваться его опытом, познакомиться с его жизнью, приключениями и непременно — мыслями и переживаниями, порожденными высокими широтами.
Летая над арктическими просторами своего родного Севера, он постоянно видел серые прямоугольники бараков, бараков, бараков, бараков… По долгу службы ему довелось не год и не два провести над ГУЛАГОМ. С людьми, что принадлежали этой страшной стране, встречался не часто, но всякий раз после такой встречи долго не мог успокоиться. «Понимаешь, — говорил он мне, — в существование врагов народа я тогда верил, их злокозненность меня пугала, но не мог понять, откуда их столько, почему — бараки, бараки, бараки, бараки полные несогласных, недовольных, вредивших, отказывающихся перетерпеть наши трудности?»
Мы сдружились не в одночасье, но когда пригляделись, причувствовались, ощутили себя вроде бы из одного экипажа. Помню, он спросил однажды:
— Ты можешь мне ответить, где все-таки случился прокол? Ведь изначальные идеи, на которых мы росли, были так прекрасны… или ты не согласен?
— Скажи, социализм — это когда от каждого по способностям и каждому — по труду. Так?
— Ну-у, так.
— А коммунизм — это когда от каждого по способностям, но каждому — по потребностям? Так?
— Ну-у… и что тебе не нравится в такой постановке вопроса?
— А чем ты станешь измерять эти самые потребности? Как? И неужели тебе никогда не приходило в галопу, что у проходимцев, прохиндеев и чистопородных подлецов потребности всегда выше, чем у людей совестливых?
Мы много спорили, никогда не ссорясь, стараясь понять друг друга, людей, события, правильно оценить обстоятельства. Его сын, человек некоммунистической ориентации, как-то сказал отцу: «Придет время и такие, как ты, правоверные будут на столбах висеть». Он сильно переживал такое. От сына легко ли услышать?
Заслуженный полярник испытывал тревожную потребность оправдать свое существование не только тысячами ледовых посадок, сотней боевых вылетов в тыл противника, безупречной пилотской службой, но еще и пониманием жизни, во имя которой безропотно трудился год за годом. И это давалось ему с трудом.
Наше интенсивное сближение еще продолжалось, когда он, случалось, пропадал надолго. Сначала я беспокоился, потом он пояснил — рецидив Арктики, время от времени испытываю потребность в уединении. Забираюсь на подмосковную дачку и какое-то время избегаю всяких встреч. Когда декабрьским вечером прозвенел телефон, я никак не ожидал беды.
— С приближающимся Новым годом! — услыхал я его приглушенный голос, как мне показалось, звучавший из невероятной дали.
— Откуда ты говоришь?
— Да из больницы, прихватило…
— Подожди… давай координаты, я завтра приеду.
— Не суетись. Ничего не надо. Желаю тебе жизни, а я через два-три дня помру. — И прежде, чем я нашелся, что сказать, он закончил: — Я хорошо погулял на этом празднике, пора и честь знать. Прощай!
Есть же настоящие люди на нашем свете. Жить умеют не суетясь, умирать не кокетничая, они нас учат не столько словами, сколько собственным примером.
16
Сначала коротенький пролог. В свое время был у меня, как говорится, несколько затянувшийся, лениво текущий роман с чужой авиационной женой. Мой друг характеризовал эту даму сердца так: а ничего себе, канашка! И так уж получилось, когда ее муж вернулся из затянувшейся загранкомандировки, я оказался в положении друга дома. По молодости лет мне льстило его расположение и привязанность детей, сказывалось, наверное, влияние французской литературы. И вот приезжаю однажды, как было договорено, и узнаю — хозяевам невозможно не уйти из дома: сослуживец пожалован полковником и, что еще важнее, отмечает новоселье. Обижаться не на что: непредвиденные обстоятельства у кого не случаются, и я готов был тут же отработать полный назад. Но и жена и муж решительно воспротивились: пойдешь с нами.
— Да что я попрусь в полковничье общество? Как я буду там выглядеть в тощих лейтенантских погонах, среди совершенно незнакомых людей?
— Можешь надеть мой штатский костюм, — предложил муж, — если тебя смущают погоны…
— Не торгуйся, ступай в спальню, переодевайся, — распорядилась жена, — ты прекрасно знаешь, я не люблю опаздывать.
Короче говоря, я подчинился.
На новоселье собралась большая компания и, когда мы, немного запоздав, появились в обществе, разогрев уже начался — тихо позванивали рюмки, временами раздавались подвизгивающие смешки милых дам. Словом, все шло, как это обычно бывает в офицерской компании.
Едва очутившись в незнаком доме, я заметил — надо всем сборищем возвышается могучий человек-гора в новеньком генеральском мундире, густо увешанном орденами и медалями.
Прошло совсем немного времени. Шум заметно усилился. С разогревом покончили, началась раскрутка, хозяин дома врубил оглушительную музыку, кто-то порывался танцевать. Не скажу, что вся эта кутерьма доставляла мне большое удовольствие, но сбежать я не мог, как и куда уйдешь в чужом костюме? К тому же и дама сердца успела шепнуть:
— Терпи, мы долго тут не пробудем, очень шумно и пьяно идет, а я этого не люблю.
Почти следом замечаю — генерал вроде бы мне делает знаки из коридора — подойди, как я понял. Ни сном, ни духом не ведая, на что я понадобился, иду. Он тихо так, почти шепотом спрашивает: