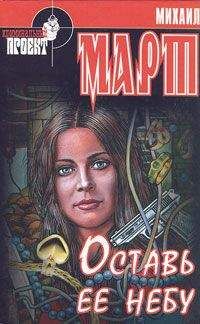Станислав Мелешин - Расстрелянный ветер
Другим бы так полюбить — степь загорелась бы!
Говорили друг другу разное, как в забытьи, как на исповеди.
Он:
— А что будет дальше?
Она:
— А ничего не будет. Ты да я…
Он:
— Давай уйдем ото всех, в степь, на хутор, далеко-далеко и станем жить только вдвоем. Или в другую станицу, к другим людям.
Она:
— Глупый. Куда же мы уйдем? Куда — от родных людей?
Он:
— В другую жизнь.
Она:
— Другой пока не настало. Мы ко всему привязаны. Я — к сыночку, ты — к матушке, и жизнь наша — к станице, к земле, к работе… Надо нам друг дружки держаться.
Он:
— Да. Вместе быть. Вот скоро… и полетим мы с тобой по-над степью, словно орел и орлица…
Она:
— Подождем немного. Все заботушки с плеч столкнем, ты знаешь о них… освободимся, вот потишее время настанет, прояснится…
Он:
— Не пойму что-то.
Она:
— А тут и понимать нечего. Любить надо. Ты вот уйти ото всех мыслишь, как орел зовешь в полет… А куда? Это как во сне — летишь, летишь, а проснешься — лежишь и не можешь подняться. Жизнь, Васенька, очень длинная дорога, и на ней остановки нужны, чтобы передохнуть… Ну, что тебе еще надо, кроме меня?
Он:
— Ничего.
Они снова целовались жадно и неистово, словно наверстывая упущенное.
Стало свежо и ветрено. Трава захолодала. Евдокия часто вздрагивала, а он все спрашивал:
— Тебе холодно?
И она кивала, соглашаясь:
— Да… Согрей меня.
И никого не было на свете, только они вдвоем: он, Василий, и она, Евдокия, да степь, да над ними потонувшие в еще красном небе первые звезды и алый гребешок зарывающегося в землю солнца. А за степью — опостылевшая пыльная станица, в которой разгоняет сном дневную скуку казачий благообразный, но настороженный мир.
— Ты моя лада.
— Иди, иди ко мне… Будем любиться.
…Василий стоял перед ней на коленях и с нежностью смотрел в ее зовущие, полыхающие зеленым огнем глаза, потом вдруг увидел, что они расширились, остановились, застыли, глядя куда-то мимо него, и он с испугом заметил, что остекленели зрачки в них.
В глазах ее были крик и ужас и то выражение животной боли, какое бывает у коров и лошадей, когда им прижигают раскаленное тавро.
Он не успел обернуться, как страшный удар в голову свалил его на бок. Боль хрустящая и горячая оплела его лицо и засела в затылке. Он чувствовал удары еще и еще и ловил эти удары в ладони, но руки отшибались чем-то тяжелым и каменным.
Потом он понял, что его хотят убить, уничтожить дыхание, глаза и сердце, и он видел только кровь, что липко вилась меж перебитых пальцев, чуял, как она хлестала из затылка, лилась за ворот огненным ручьем, обволакивала грудь, ярко краснея на полотне белой чистой новой рубахи, подумал отрешенно, как вздохнул: «Да что ж это такое?!» — и услышал истошный, растерзанный крик Евдокии:
— Не убивайте его!
Но его убивали.
Он поймал и вырвал что-то железное и толстое, позванивающее, догадался, что это цепями они били его но голове и плечам, и увидел, как чернобородый отбросил от него Евдокию, услышал еще раз: «Не убивайте его!», — ее рыдание, услышал чей-то знакомый хрипящий голос: «Молчи, сука!..» — догадался, что этот голос принадлежит Кривобокову, Маркелу Степановичу, потом охнул и никак не мог закрыть глаза, чувствуя, что бьют по бокам его тело.
В небе метались красные и зеленые сполохи. Ожила дорога — за всадниками, их было четверо, скакали кровавые костры пыли. Солнце темнело, поблескивая по краям гребешка, входило тяжело и медленно в землю. Это последнее, что увидел Василий Оглоблин, теряя сознание.
* * *Стояла на степи, на фоне атласного, розового неба женщина. Смотрела, искала горизонт, нашла, а чуть повыше увидела еще один, беленький, где начинается небо. Смутно чувствовала огромную землю, страну… и одиночество. А еще, горлом, — неуемную обиду. Все спит: земля и небо. Лежит на зеленой траве, положив руку ладонью на стебли, словно поглаживая их, оглушенный мужик, красавец, Васенька…
«Отняли, убили… Его, а не меня. Реви, не реви — не вернешь! Да что это за жизнь такая?! Кто в ней прав, кто виноват? Вот ведь… полюбились… А его изничтожили. Может быть, люди привыкли убивать? Там война, тут война. Кто-то должен воевать за справедливость?! Мы с Васенькой полюбили друг друга… Ну кто же нас охранит?.. Убили, уехали…»
Солнце гасло повечеру. Травы, дорога, мерцающие серебрянно ковыли, тяжелая с темной листвой береза входили в темь. Откуда-то сверху, почти с неба, вдруг раздался резкий голос:
— Эй! Тетка!
Евдокия вгляделась: перед ней серое, усталое круглое лицо с усами. Жемчужный. Сгрудившиеся, фыркающие в землю кони. За всадниками ало поблескивали дула винтовок. Она отметила: «С мушками, с прицелом…» Разревелась. Опустилась на колени, причитая:
— Комиссар, комиссар… Вот полюбила. Крадучись. И вот они… Ох, мужики, вы умные!.. Когда жизнь-то будет?!
— Кто его разрисовал? Это они там скачут?
Евдокия кивнула в сторону неба.
— Они.
— Товарищи! Взять их живьем! Стрелять поверх голов! А ну-ка, живо! А вы… поберегите его.
Земля повернулась, закопытилась. Евдокия посмотрела вслед отряду, встала с колен, благодарно поклонилась головой.
Наступила ночь. Слез уже не было. В сознании билось: «Он командир. Он сказал мне «Вы». И «поберегите его». Значит, нас охраняют. За нас воюют».
Василий Оглоблин открыл глаза, снова закрыл, пошевелил пальцами, вздохнул:
— Больно мне. Не уходи.
— Я здесь. Я рядом… Человек ты мой.
* * *…На следующий день Оглоблин пришел в себя, глупо улыбнулся и ошеломленно произнес: «А кто я такой?» Эти слова он говорил потом всем встречным, пугая каждого черными сгоревшими глазами.
После суда Матвей Жемчужный лично расстрелял бывшего есаула Кривобокова.
Глава 7
НАЛЕТ
Матвей Жемчужный сидел перед столом на табурете, широко расставив ноги, и старательно прочищал разобранный маузер. Он трудно дышал от духоты, часто пил ковшом из бадейки ледяную колодезную воду и утирал мокрый от пота лоб коротким рукавом тельняшки, поглядывая в окно.
Во дворе сельсовета под огромным в полнеба тополем подремывали послеобеденное время бойцы эскадрона, положив под головы седла и оружие. Лошадей дневальный увел к озеру на водопой.
Через час-другой играть побудку и — в путь! К вечеру аллюром три креста эскадрон доскачет до Уральского хребта — всего пятьдесят верст. Надо же когда-нибудь принять бой с бандой Михайлы Кривобокова!
В открытое окно донесся топот копыт, шум голосов, истошный бабий радостный плач, свист и гомон ребятишек. Жемчужный высунулся из окна по пояс и увидел, как, прорезая толпу и взмахивая плеткой, спешит иноходью бородатый всадник с винтовкой за спиной дулом вниз. За ним поодаль двое бойцов из поста разведки. Какая-то худая высокая баба, держась за уздцы, ревела и все поворачивала морду лошади к себе:
— Кормилец ты наш!.. Айда поначалу в избу! Детишки-то все заждались!.. Соколик ты мой!.. Возвернулся!!!
Соколик скрипел зубами, матерно ругался и рвал поводья к себе.
— Прими руки, дура! Охолонись трохи! Должен же я властям покаяться спервоначалу, аль нет?!
Он кашлял и оглушительно чихал от пыли. Толпа прихлынула к сельсовету. Жемчужный закрыл окно, надел старую кожанку, припечатал на затылок бескозырку, подпоясался и подкрутил усы. Бойцы из разведки ввели этого бородатого всадника, невысокого роста, в залатанной поддевке, в расползшихся сапогах. Он затравленно оглядывался на ввалившихся за ним людей, на окна, к которым прильнула толпа, и тяжело дышал. На лице его, в бегающих глазах таилась вымученная улыбка, и когда он широко раскрывал рот, то раздвигались глубокие морщины и открывались желтые зубы. Бородатый снял картуз и, мучая его в руках, затоптался, торопясь, выкидывая слова из глотки голосом хриплым, скрежещущим при кашле:
— Так что я… Роньжин! Значится, соответственно сам заявился на законную милость нонешней власти!
И бухнул на колени.
Жемчужный громко хлопнул ладонью по фанерной крышке стола, как выстрелил, и, сдерживая бешенство при виде вооруженного мужика, стоящего перед ним на коленях, уточнил:
— Нонешней власти… Советской власти! Встать!
Роньжин вскочил и вытянулся во фрунт. Закивал, уже не улыбаясь:
— Да, да… Советской… Обстоятельственно, рабоче-крестьянской!
Жемчужный вспомнил петроградские рассветы на булыжных гулких улицах, дождевые ветра, секущие лицо, грузовички, полные матросов и красногвардейцев, мрачное молчание особняков, в упор и из-за угла рвущиеся выстрелы белой контры и, одернув кожанку и расправив ремень, гаркнул:
— Оружие на стол!
На стол, гремя, легли винтовка с плеч, наган из-за пазухи, нож из-за голенища, топорик из-за пояса и котелок, из карманов шаровар — два больших тугих мешочка.