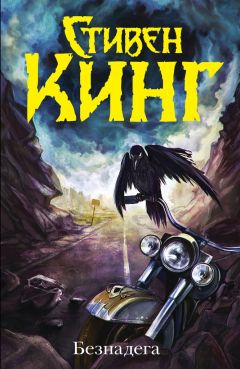Анатолий Приставкин - Городок
В этот вечер он простился не слишком торопливо и до ночи не мог заснуть, все ему мерещились белые руки, и запах женского тепла кружил голову. Тут же решено было, что завтра он придет снова, захватит кое-что из подсобных материалов, но и вина: красного и сладкого, чтобы не подумали, что он пытался споить учительницу. А в последний момент все-таки купил еще и водки, и вина, и каких-то закусок, вроде любительской колбасы и плавленых сырков. Не раз потом они вспоминали, как Григорий выставлял на стол свои дурацкие закуски и как молча, но вовсе без осуждения, насмешливо и испуганно Тамара Ивановна смотрела на них, особенно на бутылки, а потом как ни в чем не бывало произнесла: «Хотите, я вас супом угощу? »
Она и от водки не отказалась, выпила рюмку и прикрыла рукой: «Все, Гриша, я больше не пью». А потом он понял, по каким-то неуловимым признакам, что удобно ему остаться ночевать, и он смело затянул вечер, повествуя о службе в армии, о дружках, которые разъехались, но пишут, кто как устроился, и о Риге он рассказывал, о старом городе, о Домском соборе, где слушал органную музыку, но еще более восхищался старинной архитектурой, которая конечно же далека от индийской, от того же Тадж-Махала, но так же потрясла его.
Тамара Ивановна вышла и вскоре принесла альбом пластинок, и среди них одну, где была запись именно органной музыки в Домском соборе, а на обложке сам собор, его центральный зал. Тут только увидел Шохов небольшой проигрыватель чемоданчиком, в крышке которого был смонтирован динамик, он стоял на подоконнике — и рядом десяток пластинок, часто игранных, судя по виду.
Вот с этой органной музыки, а потом еще других записей, а потом еще с книжек, которые он увидел в школьной кладовочке, и начал Шохов все больше и больше думать о Тамаре Ивановне. И додумался он в конце концов до женитьбы. Но это через месяц или чуть больше, если считать от того дня, когда они впервые посетили школу с Мурашкой. А в этот странный вечер, а потом и ночь ничего у них не было. Шохов полез к Тамаре Ивановне, но та легко его отстранила, так, с необычной своей усмешкой, после которой надеяться на что-то было невозможно. Он спал на полу, на белой крахмальной простыне, на мягкой подстилке, и, конечно, не смог заснуть ни на минуту и догадывался, несмотря на полную тишину, что и Тамара Ивановна не спит.
Рассердись на себя, встал с рассветом, часа так в четыре, и, уже одевшись и направляясь к двери, услыхал, нет, пожалуй, почувствовал, как соскользнула она с кровати, обняла со спины и голосом, которого он не узнал, пронзительным и тихим, просила ее простить.
— Я не могу так, сразу,— произнесла она, он слышал ее дыхание на своем плече и боялся шелохнуться, не то что встать к ней лицом.
Так и ушел, чувствуя на плече, на коже зудящую боль, как от ожога.
Шлялся до самой смены по каким-то незнакомым улицам и глупо, беспричинно улыбался. Он знал, что запомнит навсегда это утро.
Но запомнилось оно совсем по другой причине. Так уж вышло, что он раньше обычного пришел на работу и в свете раннего утра шагал по всему длинному крылу строящегося здания, составляя в уме план работы на день. Он залезал на леса, проходил по шатким узким досочкам и вовсе ничего сегодня не боялся. Он просто был уверен, что ничего с ним случиться не может. Настроение было воздушно-прекрасным на сегодня, как и на всю жизнь. Вот тут он услышал в одном из закутков громкий женский плач. Завернул в боковой отсек и увидал девушку, он ее встречал несколько раз и даже знал, что ее зовут Кофея, странное татарское имя. Девчонка была молоденькая совсем, черноглазая, с косичками. Шохов, встречая ее на работе, почему-то всегда произносил: «Здравствуй, блинчик». Уж такое приятное и круглое личико было у татарки, что он ее называл блинчиком.
Однажды она, рассмеявшись, ответила:
— Табак бит... Это у нас так называют: лицо, похожее на сковородку!
— Нет,— тут же воспротивился Шохов.— Не табак бит, а блинчик... Ты просто блинчик, и не представляешь, как это красиво!
А теперь он узнал ее, удивился: почему в такой ранний час она появилась на работе и чем так расстроена? Может быть, недоплатили ей или подруги сказали со зла какое-нибудь резкое словцо, или другое, но в том же роде?
Шохов был человек открытый, но ничего он еще не понимал в женских бедах. Да еще именно в этот день было у него возвышенное настроение. Может, потому он и воскликнул:
— Здравствуй, блинчик! Кто тебя с утра обидел?
Слова и тон были такими легкомысленными, что девушка только посмотрела на него и пошла прочь.
Понял Шохов, что ляпнул ненужное. Он догнал татарку уже во дворике:
— Эй, Кофея, ты что? Что случилось?
Девушка только повела плечами.
Но утро было такое свежее, такое чистое и настроение и голос у Шохова безмятежным и искренним, что девушка в конце концов рассказала, что их бригадир Семен Семеныч Хлыстов обещал на ней жениться, а теперь он сказал, чтобы она убиралась куда глаза глядят. А куда она может поехать, если у нее скоро будет ребенок...
Тут она снова расплакалась, а Шохов обещал поговорить с Хлыстовым.
— Ты, блинчик, не робей,— сказал он бодро. Хотя никакого такого настроения в нем уже не оставалось.— Я ему все выскажу. Он будет знать.
Но высказывать тоже нужно уметь. Шохов же не был в те времена дипломатом и в самом же начале дня, повстречавшись с Хлыстовым, все ему напрямки и выложил.
— Семен Семенович,— сказал он, глядя в его асимметричное, остренькое, как у полевого мелкого хищника, лицо,— вы за что же обидели девушку, вы знаете, о чем идет речь... Вы обещали на ней жениться, да?
Хлыстов только остреньким носом повел в его сторону:
— Не знаю, Григорий Афанасьич, ничего не знаю. А вот что молодые бригадиры, без году неделя тут, сплетнями занялись, слышу. И на это соответственно буду реагировать. За клевету по нынешним законам граждане несут уголовную ответственность.
И, не взглянув больше на опешившего бригадира, Хлыстов меленько засеменил в сторону.
А Шохов, вот уж сила демагогии, даже слова в ответ не смог произнести. Стоял, задыхаясь от злости, сдерживал себя. Не дай бог догонит и ударит этого подонка — так и вправду засудит. В этом не было никакого сомнения.
День был испорчен начисто. Да и черт с ним в конце концов. Но ведь он видел, он понимал, что молоденькая Кофея, его милый блинчик, не будет зазря так отчаянно плакать, в грязном закутке перед работой. Потом выяснилось, что мать ее вовсе не хочет пускать в дом, узнав о будущем ребенке. А будущий отец вовсе прохвост и негодяй, и взятки, как говорят, с него гладки.
Может быть, Шохов и растерялся, не без этого. Он не нашел ничего лучше, как пойти к Мурашке и все тому рассказать. Будто Мурашка был столь уж всесилен, что сразу мог разрешить подобный конфликт. А вышло, что Шохов спихнул на него то, что должен был сделать сам. Моральные угрызения таким, как Хлыстов, непонятны, а вот физическую силу они уважают. Жаль кулаков, да бьют дураков! Набить бы морду, в том же закутке, и пусть расплевывается — вот что он должен был по чести сделать. Не сделал. Природная осторожность не позволила. А Мурашка, нужно было знать его, тот зажегся, не потушить.
Он шумно вздохнул и произнес с каким-то странным шипением:
— Ага! Сенька Хлыстов? Он у меня получит.
Сколько раз вспоминал Шохов эту фразу, убеждаясь для себя, что именно с нее-то и началось несчастье. И так, и эдак потом, когда все произошло, прокручивал слова Мурашки, желая найти хоть какой-то просвет для будущего своего оправдания. Но нет, ничего у него не выходило.
Любил ли Шохов свою Тамару Ивановну, он не знал и затруднился бы на это ответить. Знал одно, что Тамара Ивановна ему дана навсегда, и все в ней — и длинные ноги, и звонкий голос, тоже, как и глаза и волосы, золотой — было как бы от веку родным настолько, что он не мог и представить, как без этого дальше жить.
Пожалуй, не случайно именно два человека, Мурашка и Тамара Ивановна (он при людях и дальше продолжал ее так звать), стояли в основании его работы и его жизни — всего, что определяло его будущее.
Зато можно твердо сказать, что Тамара Ивановна любила Шохова, и любила по-настоящему. Она была старше его на пять лет, но много опытней, мечтала о своей семье, и Шохов, простодушный, старательный, и, более того, основательный и твердый, как ей казалось, в жизненных решениях, не мог сразу не понравиться ей. Она потом так и объяснила свои чувства, в какой-то предрассветный час, когда они лежали на сдвинутой из-за ремонта к середине кровати и совсем не хотели спать.
— Ты добрый человек, я это сразу почувствовала,— говорила она шепотом, хотя не только в комнате, но и во всей школе они были, и сами это знали, одни.— У тебя хорошие глаза и удивительная улыбка, она-то и выдает твое простодушие. Тебя часто обманывали? Да? А вот меня часто. И все равно я верю в людей.