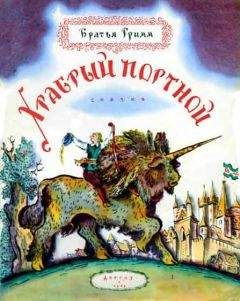Нина Буденная - Старые истории
— Я должен отметить, — сказал я в конце доклада, — что дивизия вышла из рейда окрепшей во всех отношениях: повысилось боевое мастерство бойцов и командиров, укрепилась их уверенность в окончательной победе нашего дела, в том, что мы отстоим завоевания революции.
— Да, неплохо потрепали вы беляков, — засмеялся Сомов, — а казаки еще говорили про вас — «рваная кавалерия». Вот вам и «рваная». Побила хваленых казаков, да еще и как!
— Нет, подумайте, товарищи, какой политический эффект, — поддержал Сомова Легран. — Белогвардейцы трубят на весь мир о слабости Красной Армии, о непобедимости своих казачьих корпусов, а на поверку получается совсем наоборот. И мы еще не раз докажем, что высокая сознательность армии, четкое понимание того, за что она борется и какие идеалы отстаивает, — великая боевая сила.
Егоров подчеркнул значение нашего рейда с военной точки зрения.
— Этот рейд должен стать началом большого дела. Успехом Особой кавалерийской дивизии мы обязаны воспользоваться, чтобы самим перейти в общее наступление по всему фронту. — И, уже обращаясь ко мне, сказал: — Честно говоря, положение наше было критическим. Резервы вышли. Последние двести человек послал в тридцать восьмую стрелковую дивизию. На их участок белые особенно нажимали. Кавалерийская группа Городовикова на южном участке после тяжелых боев фактически перестала существовать. Не легче и на центральном участке обороны армии. Два полка тридцать девятой стрелковой дивизии почти полностью попали в плен к белым, и оборона тут держалась в основном бронепоездами. В общем, вовремя вы подоспели. Трудно сказать, устоял бы Царицын или нет, окажись вы у Гумрака на сутки позже.
Мы проговорили тогда довольно долго. То есть, что значит проговорили — разговор, естественно, свелся к обсуждению неотложных военных дел, командарм поставил перед нашей конницей новую задачу, и мы обсуждали ее во всех деталях и тонкостях.
Был уже поздний вечер, а до дивизии надо было еще добираться и добираться. Утром я должен быть в ней непременно — предстояло выполнять новую боевую задачу.
— Как ты думаешь добираться до своих? — спросил Егоров.
— На бронепоезде, — говорю. — По нынешним временам самый удобный способ передвижения.
— Зачем же на бронепоезде, — удивился Егоров. — Реввоенсовет предоставляет в твое распоряжение автомобиль. — И пошутил: — Ты заслужил ездить не общественным, а персональным транспортом.
Я даже напугался.
— Ночь на дворе, — говорю. — Да и вообще по ряду соображений я предпочитаю бронепоезд.
А соображения у меня были достаточно простые: не доверял я автотранспорту, и все тут. Дело в том, что все наши автомашины были, разумеется, трофейные. Управлять ими наши бойцы тогда не умели, поэтому в большинстве случаев к трофейной машине прилагался трофейный шофер. Их, так сказать, вместе в плен брали. А кто он, этот тип, — честный человек, служивший у белых по мобилизации, или сам беляк? Куда он меня завезет?
Я, можно сказать, из-за этой техники некоторое время спустя Махно упустил! Так и удрал он тогда за границу. А я, вместо того чтобы его догонять, в пашне буксовал. Зато на «мерседесе». Нет, конь и только конь!
И откуда у Егорова такое пристрастие к автомобилизму возникло? Он таки тогда настоял, чтобы ехал я на машине. И что хорошего получилось? Я ее только увидел — задрожал весь. Разбитый рыдван, помятый, как старый самовар, в пятнах ржавчины. Шофер пыхтит — ручку крутит. Я сидел-сидел, не выдержал.
— Дай, — говорю, — помогу. — Но тут мотор завелся. Шофер, хрипя и задыхаясь, плюхнулся на сиденье, и мы тронулись, окутанные вонючим дымом, звеня всеми деталями и содрогаясь.
В ту ночь помянул я Егорова и свою уступчивость не раз. Повалил снег, дороги не видно, шофер выскакивает через каждые десять метров протирать фары от налипшего снега. А эта бедолага машина просто трещит по всем швам. Да и холодно притом, ноги коченеют, руки сводит. То в сугробе застрянем, то в воронке. Только и знаешь, что выскакиваешь, да толкаешь, пихаешь, плечом наваливаешься. Наконец мы свалились в окоп, и на этом мое путешествие на персональном транспорте закончилось. И отправился я пешком по железнодорожному полотну до дома, до хаты. Как говорится, по шпалам, по шпалам. И так тридцать километров. Последние километры я уже бежал, боялся опоздать в дивизию к назначенному времени. Вот тут я и понял, что шпалы неправильно кладут: то ближе, то дальше — для ходьбы и бега не приспособлено.
Нет, конь и только конь! А ведь знаю я, отчего у Егорова к лошадям недоверие было. Рассказывал он мне про себя забавный случай. Да я и сам был ему почти свидетелем, только очень далеко находился и никак понять не мог, что у них там происходит. А происходило вот что.
…Была такая знаменитая лошадь, орловский рысак Крепыш. Рекордист, фаворит ипподрома. Его бы беречь и беречь, потомство его растить, но ведь революция, до того ли? В общем, не знаю как, но оказался Крепыш на фронте. И раз он такой знаменитый, определили его как личную лошадь к Егорову.
Произошло это, как я думаю, от неосведомленности. Какая из призового рысака верховая лошадь? Галопом на ней ездить — только коня портить, рысаку по закону не положено на галоп сбиваться. А на его рыси попробуй усиди. Тут такое дело: есть рысь так называемая учебная. При ней облегчаться, то есть приподниматься на стременах и садиться в такт движения лошади, нельзя. Учебная рысь вырабатывает посадку, учит наездника прочно держаться в седле, владеть своим телом. Но долго так не проездишь. Облегченной рысью можно пройти десятки километров, движения лошади и человека слиты воедино, они становятся механическими. Ориентируешься на переднюю ногу коня. Поставил он ее — сел, поднял — приподнялся. И пошел, пошел, как часы. Но ритм, скорость здесь определенные. Существует скоростной предел рыси, после которого нет никакой физической возможности согласовать свои движения с лошадью. Из ритма выпадаешь. Если лошадь идет рысью очень широко, она начинает далеко выбрасывать ноги, раскачивается, всадника швыряет из стороны в сторону, то вверх подбросит, то, словно камень, в яму кинет. При такой езде все почки отобьет. Плохому наезднику и вывалиться недолго. Да и кому такая широкая рысь нужна? Требуется тебе быстрее, переходи в галоп — это же прямой отдых.
Егоров не кавалерист. Он об особенностях рысистой породы не очень-то задумывался и решил обновить лошадь. Выехал на Крепыше вместе со всем штабом на передовую осмотреть местность и нашу линию фронта. Пошли они рысцой.
— А Крепыш все прибавляет и прибавляет, — рассказывал мне Егоров. — Смотрю — я уже всех позади бросил и несусь страшной рысью прямо в лапы к белым. Я поводья натягиваю, а лошадь только ходу наддает.
И естественно, скажу я вам, он же рысак, он в качалке привык ходить, ему повод подберешь — значит, посыл вперед, он так приучен.
— Очень хотелось мне сказать простое извозчицкое «тпру», да как-то неловко. Стесняюсь. Раз я верхом, мне эти кучерские замашки не к лицу. К тому же я его и остановить боюсь: думаю, задержу коня, еще убьет его, не дай бог, все-таки Крепыш.
Смотрю — навстречу разъезд белых. А я приближаюсь к ним на дикой скорости и, учти, — все рысью, рысью. Измаялся, как мешок болтаюсь, но форс держу. Подлетаю к белым, как гаркну: «Сдавайсь!» А сам пулей мимо. Те только рты от изумления пораскрывали, даже за мной не погнались. Обалдели.
— Чем же выезд ваш закончился? — спрашиваю.
— Обошлось. Удалось мне Крепыша развернуть, описал дугу и вернулся. Больше уже я на него не садился.
И все-таки я отдаю предпочтение лошади. Она в гражданскую служила нам вернее, чем автомобиль. Однажды после боя за хутор Золотарев хоронили мы вечером двух бойцов. Среди моих конников был брат убитого. Пристал он ко мне, просит, чтобы хоронили с попом. Дескать, брат хоть и умер за Советскую власть, но был-то он верующий. Я согласился. Рукой махнул.
— Ладно уж, — говорю.
Ну, поп попом, а погибли все-таки советские бойцы, красные кавалеристы. Поэтому велел я привести на похороны оркестр трубачей, которых незадолго перед тем отбили мы в станице Великокняжеской у Мамонтова.
Проговорил там поп, что ему положено, потом мои конники отдали погибшим воинские почести — три ружейных залпа.
— Теперь играйте «Интернационал», — говорю трубачам.
А они мне:
— Мы не умеем.
— Как же так? — говорю. — Что же вы тогда умеете?
— «Боже, царя храни».
Вот тебе на. И значит, стал думать, как из положения выходить. Действительно, откуда этим мамонтовцам знать «Интернационал»? В то же время, думаю, сколько лет под этот гимн хоронили наших славных русских солдат?! И моих товарищей, погибших в германскую, и друзей моих конников, бывших фронтовиков. Ничего, не осудят. Да и нехорошо как-то без музыки.