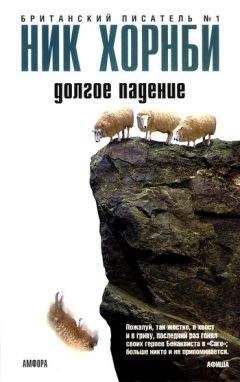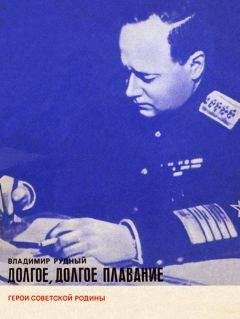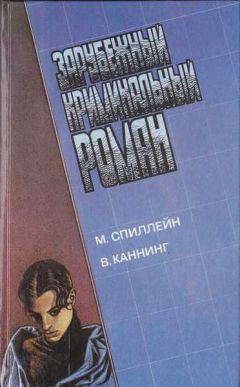Мустай Карим - Долгое-долгое детство
— Фу! Нашел занятие!
Целующийся Асхат мне совсем не понравился. А поведение Фариды, позволяющей целовать себя в густой траве, показалось и вовсе неприлично.
— Влюбленные должны целоваться. Иначе нельзя. Я ведь не сейчас, когда вырасту… Не была бы Фарида сиротой, не обижала бы ее мачеха, я бы и не влюбился в нее. Счастливому человеку нужды-то во мне — одна копейка. Из тех берез-двойняшек одна мне так сказала: «Шаткому опора нужна, одинокому в друге нужда». Такие, как мы с Фаридой, шаткие, друг другу опорой должны быть. Только об этом никому уж не говори.
— Сказал же: клянусь! Клятве не веришь, что ли?
— Верить-то верю…
Не совсем по душе пришлась мне та Асхатова тайна. Верю, и на самую высокую гору заведет он Фариду, и солнечными лучами ее окутает, и птицу певчую поймает, и песню, что у ручья перенял, споет. Небо внизу будет, они — наверху. Силы у него безграничные.
Только я и ту Фариду знаю. Каждый раз, проходя мимо их дома, поправляю тюбетейку, чтобы ладно сидела, и стараюсь поменьше шмыгать носом. Зря открыл мне Асхат свою тайну. Выходит, этой девчонке с черными-черными волосами, с ярко-черными глазами, с родинкой на левой щеке я неровня. Потому что живу я, живу, а страданий еще никаких не изведал.
Какие бы испытания мне ни выпали, тайны друга я никогда не открою. Луна видела, солнце высушило… Друг не заметил, что я о своем задумался. Он был полон своей тоски.
— Были бы мы птицами, — сказал Асхат, — улетели бы далеко, далеко. Я бы уговорил ее.
— А какой бы ты птицей стал — кречетом, лебедем или скворцом?
Он долго думал. И потом ответил:
— Нет, все равно я бы птицей не стал. Если я в птицу обращусь, вихрь, когда за мной придет, поищет-поищет меня и обратно улетит.
— Какой вихрь?
— Этот вихрь и есть моя вторая тайна. Повтори клятву!
— Хлебом клянусь!
Я смотрю прямо в худое лицо Асхата. Глубокая дума сидит в его синих глазах.
— Я ведь здесь не за себя, за другого мальчика живу. Я не здесь, я в другой, прекрасной стране родился — там шелковые травы высоко вздымаются, ягоды и плоды медом наливаются. Налетел однажды страшный ураган, подхватил меня, понес через бездонные ущелья, черные леса, неоглядные долины и бросил здесь. А отсюда другого мальчика унес. Чтобы каждый из нас изведал: он — счастье-радости, я — беды-горести. Если бы не занесло меня из чужих стран — не клевали бы меня все, словно птенца из чужого гнезда. Пройдет срок, и нас снова поменяют. Я знаю, они парой ходят: на одно страдание — одна радость. Вон из-за того березняка вынесется вихрь, схватит меня, и мы улетим. Каждый раз, только ветер поднимается, я лезу на крышу сарая и жду. Но не настало еще время. Я еще здесь не всю свою долю изведал, не всю воду выпил, не весь огонь проглотил.
У меня сердце оборвалось.
— Выходит, тебя нечистая сила подменила!.. Выходит, ты шайтана сын!
— Нет, у него дети светлыми не бывают, все черные. Говорю же, меня сюда из другого мира, из страны счастливых забросило. Все равно меня отыщут…
Много после этого ураганов прошло, много вихрей пронеслось, но все они обходили моего друга стороной. Асхат об этом больше никогда не говорил, ни разу. И я не поминал.
Так, наперегонки с судьбой, мы и подрастали. Выросли, вытянулись. Когда Асхат был маленький, старый Искандер в школу его не пускал: «Только и осталось — к черту, за наукой ходить!» — говорил он. Потом уже и сам Асхат не очень рвался. Так и остался полуграмотным, еле буквы разбирал. Но прославился в нашем ауле и во всех соседних как острослов, выдумщик, сочинитель песен. Из-за острого языка и поколачивали порой. Но он не унывал, языка своего не укрощал, только приговаривал: «По вору и кнут».
Но однажды налетела черная буря, накрыла всю страну, закружила наших джигитов и унесла в далекие края. Не из светлых стран пришла эта буря — из черной страны горя нагрянула. Асхат уже понимал тогда, что родная земля его с шелковой травой — вся здесь, у его ног. Било и мотало нас этим вихрем, мы становились мужчинами, и в долю выпало кому смерть, кому слава. Но выше всех бурь поднялся священный свет родной земли, он осветил мужество живых и могилы мертвых.
Многих огненный вихрь унес в страну, откуда возврата нет. Пропал без вести и Асхат. Но я не могу поверить. Он был не из тех, кто пропадает без вести. Видно, синева его глаз слилась где-то с синевой неба. Не думаю, что умер он в судорогах, корчась на земле. Может, ехал он верхом и рухнул с седла, а может, в пылающем самолете сгорел высоко в небе. Он был красивым человеком. Я не верю, что красивый человек может умереть некрасиво. Он был поэтом. Смерть поэта не может быть безобразной.
Прошли годы, я уже думал, что Асхат совсем ушел в омут времени. Но вдруг — глазу, как ветер невидимая, уху, как луч, неслышная — весть о нем пронеслась над нашей землей. Будто бы видели: одноухий синеглазый юноша перепрыгивает с планеты на планету и лучиной зажигает потухшие звезды. А тем, что тускло горят, добавляет яркости. Этому вполне можно верить. Он был поэтом. Значит, поэт взялся за свое главное дело.
ОПОЗОРЕННЫЙ ГОРОД
За домом гнусавый Валетдин рубит дрова. Ударит разок топором и молит, уставясь в небо:
— О небо! Забери же кого-нибудь! Или меня забери, или бабушку! Только и знает: наруби дров да наруби дров!
Он опять нехотя тюкает по березовому полену, лежащему на чурбаке. Полено не поддается, только подпрыгивает.
— И полено твердое… и топор тупой! — жалуется он. — Ну почему только мне все так вредничают!
Валетдин сдернул с головы свою заскорузлую тюбетейку и швырнул оземь. У завалинки, где она упала, фыркнула и взметнулась пыль. Он опять устремил взгляд в синее небо. Из его в дальней дали блуждающих глаз брызнули слезы.
— О небо! Ты меня одного, сиротину своего, забери. А бабушка пусть тут останется. Пусть одна в свою сласть поживет — со всем скотом-имением управляется. Слышишь, небо?
Валетдин и его бабушка, совсем дряхлая старушка Гидельниса, живут вдвоем. Отец Валетдина с германской войны не вернулся, мать в другой аул, в Кусюм, замуж вышла. «Скотом-имением» же зовется — однорогая желто-пегая коза. И коза-то не коза — косуля настоящая. То и дело аульское стадо куда-нибудь уведет. Валетдин не нахвалится: «Наша пегая коза всему стаду голова, темноту вашу: вислопузых невежественных коров да бестолочь баранью — куда хочет заведет. Хотя молока и не в избытке дает, она высоким своим положением известна, по делам почитаема…»
«По делам почитаема», — говорит. Так ли уж почитаема? Не зря же давеча, когда Младшая Мать на женском собрании припозднилась, отец с насмешкой бросил: «Что-то ты, женушка, от дела виляешь, на собрания зачастила — глядишь, так и в козы бабки Гидельнисы выбьешься…» Младшая Мать только хихикнула, но и то без особой живости…
Я стою, прислонившись к углу избенки бабушки Гидельнисы. Валетдин все еще не замечает меня. Он бросил топор и плюхнулся на чурбак. По щекам все так же текли слезы. Он долго молчал, потом снова поднял лицо к небу:
— О небо! Эту свою молитву я обратно беру. Оставь нас обоих здесь. Не то бабушке одной, без меня, совсем плохо будет. А вместе проживем как-нибудь: две сироты — родня друг другу.
Тут я не вытерпел и от жалости к Валетдину и бабушке заплакал. Валетдин вздрогнул и повернулся ко мне. Поначалу то ли напугался, то ли рассердился — так и отпрянул в сторону. Увидев же, что посторонних — «всего лишь я», успокоился.
— Тронул кто? — спросил он мягко.
— Никто.
— А чего воск давишь?
— К твоим слезам… Ты хорошо сделал, что свою молитву обратно взял. Что тебе там, в холодном небе, делать?
Наверное, это и было в моей жизни в первый раз, когда я, чужою горестью горюя, слезам другого вослед заплакал. А когда за другим вослед песню запел, этого не помню. Пожалуй, уже позже, много позже…
— Ты не плакал, я не плакал. Ясно? — сказал Валетдин. — Не мужское дело — слезы точить.
— Ясно, — покивал я, хотя и не совсем понял. Этого До конца я и потом не пойму. Даже когда несгибаемые вроде мужчины рыдали — я не удивлялся, их не винил. Если бы и камень вдруг выжал слезу, сказал бы: видно, так схватило…
— Если этот сук за три удара не перерублю — не зваться мне Валетдином, — сказал он и трижды плюнул себе на ладони. Взял топор, яростно замахнулся… и первое отрубленное полешко легко спрыгнуло с чурбака. Дальше Валетдин знай рубил — только полешки в сторону откатывались. Вот загадка! Топор ли за это время навострился, дерево ли мягким стало?
Вышла во двор бабушка Гидельниса. Смотрит на внука, нарадоваться не может.
— Вот он какой, мой работящий, мой послушный! Когда за дело берется — даже сердцем встрепенется. Опора моя, столб золотой… Даже тюбетеечку скинул. Если еще и домой занесет, что нарубил…
— Я сам! — сказал я и начал поспешно набирать в охапку дрова.