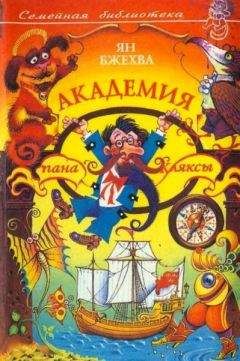Виктор Конецкий - Том 7. Эхо
Аминь. Обнимаю, не болейте, дядя Вика, не горюйте.
Ваш разгильдяй Грант
15.09.93
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМОДорогой дядя Витя!
Как я рад, что Вы живы и телом и душой. Душой? — потому, что так долго горевать о смерти Яна Вассермана может только живая душа.
Не думаю, что он ушел от водки.
Приведу старый анекдот из раньшего времени.
Ползет еврей из Союза через границу и видит погранца, сдергивает портки и становится торчком, изображая большую нужду. Тут подгребает погранец со своим верным Карацупой, и происходит такой разговорчик:
— Что делаешь?
— Гажу…
— А почему дерьмо — собачье?
— А жизнь какая?
И смешно и грустно, но сколько Янов ушло из той собачьей жизни…
Вы приказываете мне писать прозу… Увы, для такого дела потребны стайерские данные, а у меня короткое дыхание спринтера. Я где-то вычитал, что классный бегун на стометровке успевает выдохнуть пару раз. Впрочем, черновики свои пишу в толстенных амбарных книгах, а они вполне сойдут за дневники. К тому же мне как-то больше с руки скудные мысли рифмовать. Мне, мракобесу, подавай четкий ритм и точные рифмы. А для примера, покушусь на несколько высокопарное, но очаровательное стихотворение в прозе И. С. Тургенева. Как хороши, как свежи были розы, И робкий гром, и капельки в пыли… Теперь зима. Свистящие полозья Нас навсегда с тобою развели.
Прошу прощенья за нахальство. С детства стеснялся своего шикарного имени, ибо был и есть кривоног, длиннонос, сутул и лопоух. Пришлось изживать комплекс и стать в результате элегантно-угловатым нахалом; одно время подался аж в дикторы телевидения и даже заработал вдобавок к врачебному диплому еще и удостоверение артиста-разговорника. М-да, пора подаваться назад, в стеснительное детство…
С днем рождения, братишка!
Ваш разгильдяй Грант
04.01.96
Магадан.
ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ * * *Зима. Гитара. Жар поленьев.
Стакан. Огурчик под укроп.
Пушистый снег с пушистой ленью
В душистый падает сугроб.
Избушка. Девушка нагая.
Кукушки шаркающий бой.
И тишина. И глушь какая.
Зима. Гитара. И любовь.
Ни смеяться, ни плакать
Нет охоты уже…
Пробежала собака —
И тепло на душе.
Всласть кемарит рябинка,
Окоем — как умыт…
И хрустит под ботинком
Половинка зимы.
Декабрь — пропащий месяц,
Пропащее — нельзя:
И солнце косо метит,
И тьма слепит скользя…
Простылая погода,
Пристанище ворон…
Декабрь — поскребыш года,
И так заброшен он;
Так жалко бедолагу,
Такого одного,
Что был бы он дворнягой —
Впустил бы в дом его.
Сам своей судьбе господин,
Человек завсегда один.
Словно Бог о трех лицах един,
Он восходит и сходит один.
Пропадает любимый кот —
Человек со цветком идет…
Улыбнется цветку жена —
И она увянет одна…
Загинает в остроге сын —
Человек за свечой один…
Помирают отец и мать…
Больше некого поминать…
Мне бы первому, по весне,
Как истает усталый снег,
Только как я оставлю их,
Беззащитных таких, одних.
Грант Халатов умер от рака легких 5 июня 1996 года.
Возможно, с Божьей помощью книга стихов Гранта выйдет во Владивостоке.
1999
Приятно вспомнить(Р. Орлова, Л. Копелев, Д. Стейнбек, Э. Колдуэлл)
(Пролежало неделю. Боялась посылать.)…
Уважаемый Виктор Викторович! Я давно читала и любила Ваши книги. И вот наступил момент проявить свою любовь практически, что ли: порекомендовать Ваши произведения для американского издания. Если бы я просто писала Вам читательское письмо (часто это делала в мыслях), то оно, конечно, было бы иным. Здесь мне надо было убедить чужих, здесь, как и везде, есть свои «законы жанра». Тем не менее подумала, а вдруг и это для Вас будет интересно. Перепечатываю свой черновик (без начала, где анкетно-литературные данные).
«…Художественное дарование Конецкого с наибольшей силой воплощается в лирико-документальной прозе. Его смело можно поставить в один ряд с такими выдающимися американскими мастерами, как Норман Мейлер и Джеймс Болдуин.
О чем бы ни рассказывал Конецкий — о прозаической жизни судна или об экзотике южных морей, о ленинградской блокаде (в блокаде прошло его детство) или о поведении кинорежиссеров в море (когда я читала этот кусок — об этом я не писала американцам, — я громко смеялась), — во всем отражается авторское „я“; все случилось, произошло не где-то, с кем-то, не увидено со стороны, — все произошло с автором, с его участием, пропущено через его душу.
Но, в отличие от Мейлера или Болдуина, сам-то Конецкий к себе относится с нескрываемой иронией, тщетно пытается скрыться, уползти в раковину от света собственных прожекторов.
Литературную родословную Конецкого можно вести от Герцена. Великая книга „Былое и думы“ совершенно, к сожалению, недооценена в США (хотя издана последний раз у вас в 1974 году), ее знают преимущественно слависты. Между тем эта книга не только помогает многое понять и в сегодняшней нашей жизни, в особенности в жизни русской интеллигенции, но и остается художественным произведением огромной силы.
Конецкий часто иронизирует по поводу пресловутой романтики моря, подчеркивает будничность труда моряков, разрушающую мальчишечьи мечты о просторах, о вольности, те мечты, которые столетия тянут на моря мальчишек из каждого нового поколения. Но автор сам не может сдержать влюбленности в море, навечную к нему приписанность, нелегкую, но и неизменную.
Из маринистов он больше всех любит Мелвилла. Мелвилл хорошо знал то, о чем писал, но от китобойного судна автор уводит читателей в иные духовные миры.
Профессия моряка как бы представляет ширь, а Конецкий стремится вглубь. Вслед за Мелвиллом он всегда начинает с чего-то вполне конкретного. Вот в книге „Морские сны“ подходит к концу рейс и люди становятся все более раздражительны. В кубриках моряки проводят три-шесть месяцев. „Среда обитания“ — несколько метров. Совместность утром, днем, ночью. Писатель отходит все дальше от тесных пределов кубрика. Приводит данные современных наук, рассматривая понятие психологической совместимости и несовместимости. И возникает, ветвится, ширится универсальная тема: а возможно ли вообще мирное сосуществование? И не в словаре политиков, президентов, представителей супердержав, а в быту, между обыкновенными людьми.
Логикой многочисленных рассказанных писателем историй дружб, любвей, привязанностей он побуждает читателей к размышлениям и к ответу: сосуществование очень трудно, неимоверно трудно, неизбежно проходит испытания, но возможно. Хотя реализуется в кризисные моменты легче, чем в обычной жизни. Не потому ли еще люди так надолго, так навсегда помнят войну?
Конецкий высоко ценит в людях особенное, отличительное, пусть подчас и капризное, но непременно своеобразное. Он умеет это особенное разглядеть едва ли не в каждом, обнаружить в будничном, вытащить из-под груды прожитых лет. Но он ясно видит и другую сторону: осознание себя особенным, отличным от других, может вести и ведет к непомерно раздутому ЭГО.
В рассказе „Елпидифор Пескарев“ Конецкому удалось открыть новый характер, человека из подполья, живущего ценностями потребительского общества, „квази-дурака“.
В повести-очерке „Последний раз в Антверпене“ — столкновение противоположных типов, открытого, живущего по законам морского товарищества и товарищества вообще и замкнутого в ограниченных рамках инструкций.
„За нравственную тупость не наказывают“, — резко говорит капитан об этом рабе инструкций. Не наказывает начальник. А писатель Конецкий делает именно это — наказывает, изображая разновидности нравственной тупости.
В книгах Конецкого, и в этой повести, возникает (отчасти тоже как дань традиции) некий идеал мужчины. Сколько людей во всех странах мира пытались строить свои жизни по Джеку Лондону! Слово „идеал“, разумеется, не частое в его словаре. Но, вот как сам автор это формулирует: „Я видел, как осознанность проживаемой жизни, следование самим для себя созданным и нареченным канонам приносит человеку душевный покой в штормовой толчее, судорогах и верчении нынешнего дня… если так жить, то все прекрасное будет открываться тебе даже в густеющей подлости мира“.