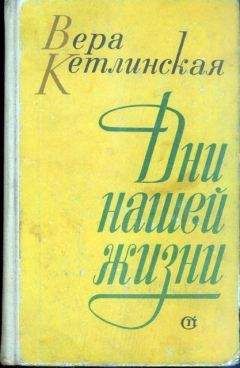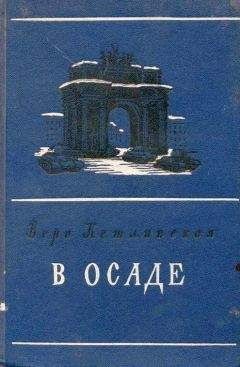Вера Кетлинская - Мужество
– Вот «индустриал»! – сказали мальчишки. – Вы по обрыву слезете, товарищ красноармеец?
Они все вместе скатились по снежной крутизне на площадку и пошли напрямик по истоптанному, загрязненному снегу.
– Здесь Чумаков с Савеловой бьются, – серьезно сообщил «ейный сын» и высказал предположение: – Только ему за ней не угнаться.
Бетонные работы шли в головной части дока. На двух смежных участках работали соревнующиеся бригады. Маленький паровозик подвозил на платформах громадные бадьи с бетоном. Кран подхватывал бадьи и подавал их бетонщикам.
Кран не казался ни гигантским, ни мощным рядом с колоннами эллинга. Его мощность выявлялась только в работе, в том, как он легко и непринужденно поднимал, опускал, кружил в воздухе тяжелые бадьи. Он был очень послушен. Крановщик еле заметными движениями управлял им, в свою очередь послушный сигналам Епифанова. Епифанов стоял на опалубке головной части и колдовал пальцами. «Майна» и «вира» он кричал очень редко. У него была целая система знаков: палец вверх, палец вниз, палец вбок, повернутая кверху ладонь, разные колебания руки – все это быстро и безошибочно передавалось крану. И громоздкая бадья, которая летела вниз по прямой, как коршун, так, что, казалось, вот-вот с размаху врежется в хрупкие леса и сомнет их, – громоздкая бадья мигом застывала в воздухе, плавно поворачивалась, нежно обходила доски, брусья, канаты и плавно садилась, но не плашмя, а как бы на корточки, не увязая в болотной гуще бетона. И едва рабочий вскакивал на нее, она легко приподымалась и предоставляла ему раскрыть ее тяжелые створы, и бетон лился из нее, как каша из опрокинутой кастрюли.
Рабочие увязали в этой каше резиновыми сапогами, разбрасывали ее лопатами по всей плоскости, забивали в нее ребром доски, украшали ее рядами металлических штырей. А бадья уже взлетала вверх, несколько секунд парила над головами, как коршун, и, взяв вбок, спускалась на платформу, прямо на предназначенное ей место.
– Леша! Алексей!
Епифанов обернулся. Сергей узнал бы его сразу, где угодно. Почему же Епифанов не узнает?
– Леша. Это же я, Голицын… Сергей…
– Ты?
Сергей видел, что его появление не вызвало никакой радости.
– Так как же, Леша… Не узнаешь?
Епифанов деликатно уверял, что узнал и помнит. Вскользь спросил, комсомолец ли.
– Буду, – сказал Сергей решительно. – Что было, то прошло. Газету читал?
– Это ты?
– Я.
– Ну, добре. Ну, здравствуй, приятель!
Паровозик подвел новые платформы. Сергей с опаской стал рядом с Епифановым. Ему интересно было взглянуть на Федьку Чумакова и на женскую бригаду. Но он никого не мог разглядеть в этих одинаковых неуклюжих фигурках, одетых в теплые комбинезоны, резиновые сапоги и широкие шляпы. Женщин он угадал лишь потому, что они были меньше и круглее.
– Нам давай, какого черта!.. – закричали из мужской бригады, и Сергей узнал Федьку Чумакова. Федька сердито жестикулировал, требуя к себе бадью. Но тут через край опалубки выглянула бригадирша женской бригады и закричала неистовым голосом:
– Это еще что такое? Почему вам? Чего лезешь не в очередь? Катись, голубчик, ничего не получишь! Давай бетон, живо, ну!
Епифанов, усмехаясь, двинул пальцами, и бадья мягко пошла к Чумакову. Савелова повернула к Епифанову покрасневшее от негодования лицо.
– А я что, стоять должна, что ли? Ты этому паршивцу не подыгрывай! Я до тебя тоже доберусь! Небось сговорились?! А ты, – обратилась она к Федьке, – не моргай, не корчи ангела, лукавый черт!
Федя Чумаков, беспомощно улыбаясь, ловко вскочил на бадью и стал колом отбивать приставший к стенке бетон.
Пораженный перепалкой знатных бетонщиков, Сергей спросил:
– Да что же это она? И чего Федька терпит?
Епифанов, усмехаясь, заботливо направлял работу крана. Савелова ругнулась еще раз и сердито, исподлобья, поглядела на Сергея. Она не узнала его и отвернулась. Но, увидев этот сердитый и одновременно добрый взгляд исподлобья, это пополневшее, но по-прежнему румяное, курносое миловидное лицо, Сергей мигом узнал ее и даже вскрикнул от удивления. Лилька!.. Была Лилька и Лилька, даже фамилии никто не знал, а теперь – пожалуйста, знатная бетонщица Савелова!..
Отправив бадью, Епифанов ответил:
– Да как не терпеть?.. Она ведь ему жена! А с женой да с радио, известно, не спорят.
И, поколдовав пальцами, отправил вторую бадью на участок женской бригады.
После работы в новом, только что отделанном клубе начиналась жизнь. Навстречу Сергею из всех дверей рвались звуки духовых и струнных инструментов, неуверенно пиликала скрипка, и над всеми этими звуками несся свободный и сильный женский голос, разучивавший упражнения: «А-а-а-а-а-а-а-а…» В физкультурном зале тренировались гимнасты. У модели планера занимались планеристы. Из стрелкового тира выскочила белокурая молоденькая женщина, крикнула Епифанову:
– Леша, тебя на репетицию ждут!
И, увидев Сергея, приветливо поклонилась:
– Здравствуйте, товарищ. Посмотреть пришли?
Сергей удивился ее приветливости, но вспомнил о своей красноармейской форме – это она открывала ему все двери.
– Лидинька, покажи ему клуб, – сказал Епифанов. – А я, браток, побежал… И я уже не Епифанов, а купец Восьмибратов… Пока!
Он скрылся за одной из дверей.
Сергей слушал женский голос, царивший над всеми звуками.
Лидинька охотно болтала, показывая клуб. И Сергей не стеснялся расспрашивать ее.
– А кто секретарь комсомола?
– Круглов Андрюша… Чудесный парень!
– А много осталось старых комсомольцев?
Она называла фамилии – почти все были известны ему. Конечно. Катя и Валька женаты. А Генька Калюжный в армии… Она не назвала Семы Альтшулера.
– А Сема Альтшулер?
Она вскинула на него удивленные и внимательные глаза:
– А вы откуда его знаете?
– Да так, приходилось…
Лидинька подозрительно оглядела его и сдержанно сказала:
– Он здесь. Он на лесозаводе был, а теперь на доках. Теперь лозунг: «Комсомольцы строят доки». Все старые комсомольцы там.
Женский голос запел за стеною:
На нивы желтые нисходит тишина…
Этот голос… Может ли быть? Как она пела тогда… у озера… Она говорила, что музыка льется с неба… Неужели она? Он хотел заглянуть в дверь, но Лидинька испуганно остановила его:
– Нет, нет, туда нельзя. Там кружок сольного пения.
– А кто это поет? Такой голос!
– Это директор больницы. Тоже старая комсомолка. И такой молодец! Она в заочном медвузе учится и поет так замечательно. Ее в консерваторию послать хотели, но она отказалась.
Душа моя полна
Разлукою с тобой и горьких сожалений…
И каждый твой упрек я вспоминаю вновь…
Голос разливался, ничем не сдерживаемый, окрепший, звучный, напоенный искренней страстью.
– Васяева? – замирая, спросил Сергей. Лидинька в упор смотрела на него. Ее лицо стало очень серьезно.
– Да, – сухо сказала она, – Васяева. Она замужем. У нее двое детей. Она очень счастлива.
Проводив Сергея до двери, она побежала за сцену, нашла Епифанова.
– Это Голицын?
– Да… Понимаешь ли… я не знал, как сказать при нем…
– Сказать, сказать! Ты лучше подумай, что теперь делать… Говорить ей или нет?
А Сергей шел по улице, оглушенный, подавленный, преследуемый страстным голосом, звучавшим в ушах. Все, что было пережито, передумано, что волновало и мучило его два года, вдруг разом прорвалось и ослепило его острой болью. Он был одинок, покинут, бесконечно несчастен. Жизнь развивалась без него. Он стал никому не нужен. Его забыли. Тоня, так сильно любившая его, забыла, счастлива, окружена уважением… У нее двое детей… Двое? Уже?.. Значит, она сразу же вышла замуж… А впрочем, что ему до этого! Все равно она далека, далека, бесконечно далека ему… И Галчонок… Где теперь Галчонок? Она тоже далека и равнодушна… Он узнает всех, а его никто. Лилька, глупая, веселая Лилька – и та теперь знатная бетонщица Савелова, и у той муж! И та не узнала… Один, отвергнут… Чужой! Чужой!..
И что делать? Ну, он покаялся комиссару. Он неплохо вел себя в походе. В газете напечатана благодарность. Но разве этого достаточно, чтобы старые друзья простили ему, приняли как своего? А без этого – как жить? Как ходить по городу чужим, если все здесь дорого, близко, интересно! Как смотреть в глаза встречным, если встречный, узнав, может отвернуться и сказать: «Дезертир… ты вернулся поздно. Главные трудности уже пережиты!..» Нет, мало покаяться перед комиссаром. Надо пойти к Круглову, все объяснить, сказать: «Забудьте! Испытайте на деле».
Он вздрогнул и остановился посреди улицы. Круглов шел ему навстречу в распахнутом у ворота полушубке, неторопливой походкой спокойного, уверенного в себе человека. Он был все такой же, но выражение его лица изменилось. Как-то резче, мужественнее очерк губ, определеннее морщины на лбу. И глаза иные – без юношеской мечтательности, озарявшей их таким нежным светом, когда комсомольцы, бывало, спорили и мечтали у костра в холодные ночи. Глаза стали глубже, строже, сосредоточеннее. В их твердом взгляде отражалась углубленная работа ума, много продумавшего и пришедшего к четким выводам. Человек с такими глазами может все понять, выслушать; с ним не страшно говорить о самом мучительном.