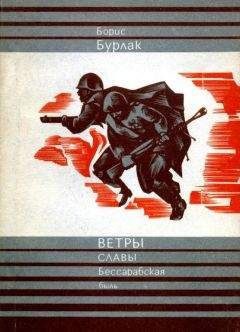Борис Бурлак - Реки не умирают. Возраст земли
Ничто так не настраивает на философский лад, как бабье лето. Весна — стихия чувств, а сентябрь — пора раздумий о минувшем. Не потому ли и трое мужчин, сидевших на берегу реки, без конца говорили о прошлом, довоенном и послевоенном. Вернее, говорили двое: Голосов и Леонтий Иванович, а Георгий больше молчал.
Они сидели на глинистом обрыве: старики рядышком, плечо к плечу, Георгий поодаль. Низко над головой сновали ласточки, привыкшие за лето к своим гнездам и очень недовольные, что им мешают; Георгий отчетливо представил дунайский берег, исколотый гнездами ласточек, и хотел было вмешаться в разговор отца с Голосовым, но не решался. День был таким солнечным, и главное — отец был настроен так благодушно, что просто не хотелось разом все испортить.
— ...Молодость давно прошла, а старость слишком рассчитывает время, — сказал профессор.
Георгий не понял, к чему это он сказал, потеряв логическую связь их разговора.
— Что верно, то верно, — заметил отец. — Люди начинают считать и пересчитывать время, когда его почти не остается.
— А вы, Леонтий Иванович, помните Никонова, что работал у Франкфурта в Ярске?
— Конечно. Никонов вместе с ним и приехал из Кузнецка. Отличный инженер. Недаром Сергей Миронович держал его при себе.
— Недавно и он ушел в мир иной.
— Как?! Неужели?... А я все собирался написать ему...
— Опоздали, Леонтий Иванович.
— Жаль, очень жаль. Столько всего хлебнуть в жизни и уйти незамеченным...
— Некролог-то был в одной второстепенной газетке. Некролог как некролог, батенька мой. Все некрологи похожи на характеристики увольняемых по собственному желанию.
Георгию показалось это сравнение неуместным, даже циничным. Он снова чуть не сказал Голосову, какие тот сам писал «характеристики» в тридцатые годы, но сдержался и на сей раз. Он испытывал ту дьявольскую неловкость, когда человек, одолживший деньги, никак не соберется с духом, чтобы напомнить должнику о забытом долге. Тем паче профессор был сегодня подчеркнуто внимателен к отцу, говорил все приятные вещи, расхваливал. «Да и стоит ли вообще подкарауливать его? — думал Георгий. — Может, он давным-давно раскаялся; может, совесть не дает ему покоя до сих пор».
— Сергей Миронович Франкфурт — вот кто порадовался бы пуску новой домны, — сказал Леонтий Иванович.
— Интересная была личность. Говорят, что даже поднимался на Эльбрус...
— Уж он не допустил бы никакой проволочки с нашей рудой.
— Тогда иные были времена.
— Какие же?
— Славные, но, пожалуй, и наивные, — сказал Голосов и забарабанил пальцами по кожаной черной папке, лежавшей на коленях. — Теперь нельзя так рисковать, как рисковали Бардин с Франкфуртом, начав строить Кузнецкий комбинат без утвержденного проекта, который долго консультировали американцы.
— Слыхал. Однако наш собственный Минчермет тоже не торопится с Молодогорском.
— Не надо сгущать краски, дорогой коллега. Всему свой черед.
Георгий насторожился: утро воспоминаний у стариков кончилось, и они заговорили, наконец, о том, что свело их сегодня вместе, — о комбинате.
— Я больше занимаюсь, пожалуй, тем, что не сгущаю, а разбавляю краски.
— Но в газетном отрывке из ваших мемуаров я не заметил этого, дорогой Леонтий Иванович.
— Поздно я взялся за перо. Всю жизнь не любил писать. В Самаре однажды тайком, через окно, сбежал из треста, когда меня засадили за отчет о ярских рудах. Все больше налегал на молоток. Но пока я остукивал здешние горы молотком, другие сочиняли целые тома. Попробуй-ка теперь докажи, что к чему.
— Если ваш покорный слуга и спорил с вами всю жизнь, то ради успеха дела. Вы сами любите говорить, что настоящий друг всегда спорит...
Георгий энергично встал, ему уже не сиделось.
— ...Помню, у вас еще есть другая поговорка: где лад — там и клад. Но лучший лад появляется именно в жарком споре. И у нас с вами, Леонтий Иванович, всегда была полная ясность в личных отношениях.
— Нет, не было, — твердо сказал Георгий.
— Вам-то откуда знать, уважаемый? — Голосов круто повернулся к нему и прицелился наметанным взглядом гипнотизера.
— Была только подлость, профессор.
— Да как вы смеете?! Да что это, Леонтий Иванович?.. — Он так же круто повернулся к Каменицкому. — Слышите, что говорит ваш сын в лицо вашему другу?
— Георгий, извинись немедленно, сию минуту!
— Нет, отец, время профессора Голосова истекло.
— Куда махнул!.. — Голосов вскочил и, разгневанный до последней степени, угрожающе приблизился к Георгию.
Высокий, прямой, сухой, он стоял на глинистом обрыве, как тогда, на дунайском берегу, и ждал извинения. Георгий сунул больную, раненую руку в карман, и Голосов невольно проследил за этим памятным движением его руки.
— Вот что вы писали. — Георгий вынул из кармана вчетверо сложенные листки бумаги. — Надеюсь, помните свое сочинение «Деньги на ветер»?.. Или успели позабыть?
Голосов мертвенно побледнел, отступил на шаг от обрыва.
— Ложь, подтасовка!
— Настоящий друг всегда же спорит...
— Вы интриган! Вы...
— Остыньте, профессор. Ваше авторство полностью установлено. К счастью, уцелел оригинал, подписанный лично аспирантом Голосовым. Или это ваш однофамилец?
Голосов метнулся к Каменицкому-старшему.
— Не верьте ему. Клевета, шантаж, подлог!..
Леонтий Иванович совершенно растерялся. Георгия поразила стыдливая растерянность отца, ему стало больно за него, но он уже не мог остановиться.
— Вы, профессор, не из храбрых, вы постарались укрыться за псевдонимом, который надежнее земляной щели под бомбежкой. Вам надо было бросить тень на человека. О-о, вы хорошо понимали, что значила ваша тень в то время! Но редактор поубавил пыл разоблачителя. Да к тому же нашлись люди, истинные партийцы, сумевшие разгадать вас еще тогда. И вы затаились, переменили тактику, начали действовать с академических позиций, хотя в душе остались клеветником. Вам профессорская мантия заменяет маскировочный халат... А теперь уходите отсюда прочь!..
Голосов оглянулся на Леонтия Ивановича, ища поддержки. Но тот, склонив голову, бесцельно смотрел вниз, где скручивались пенные жгуты в воронке.
— Вы, вы еще повинитесь передо мной, — сказал он им обоим и, привычно откинув со лба прядку волос, медленно пошел в сторону леса. Он шел так, будто, его вот-вот окликнут, остановят, позовут. Георгий проводил его долгим взглядом. Нет, совесть не мучает таких, а уголовному суду они вроде, и неподсудны.
— Неужели это правда? — тихо спросил Леонтий Иванович сына.
— Правда.
— Не ожидал, не думал, никогда не думал...
— Ты уж не сердись, что я выбрал момент неподходящий.
— Чего там...
— Идем, отец, скоро приедет Метелев.
— Прокофий Нилыч знает?
— Наверное, Павла рассказала.
— Пожалуйста, не начинай при нем сызнова. Не надо омрачать,праздник.
Георгий подал отцу руку, помог встать с земли. И по тому, как он тяжело поднялся, Георгий понял, что старик испытывает необыкновенный упадок сил.
Они шли пойменным лесом. Говорить ни о чем не хотелось. Все вокруг было по-осеннему задумчивым: и уставшие за лето некоси, и притихший в полдень лес, и сентябрьское линялое небо.
Леонтий Иванович вспоминал прошлогоднюю поездку с Голосовым в Березовск: как показывал свой первый шурф, как стоял над ним и сокрушался, что не довел начатого дела до конца. У него и в мыслях не было, что именно Голосов пытался в свое время этак походя столкнуть его плечом в тот шурф. Недаром Семен Захарович советовал «не бередить старые раны». Оказывается, вон оно в чем дело-то! Оказывается, ему случайно самому довелось заглянуть в ту яму, которую он выбрал для «дружка-приятеля»... Ну да бог шельму метит. Жаль только, что много истрачено пороха в жарких стычках с комментатором чужих открытий. Ловок, ничего не скажешь. И ведь, бывало, настораживала эта ловкость, но ты проходил мимо, занятый своими камешками, и не догадывался, что твой бывший ученик годами носит камень за пазухой. А может, погорячился и, не отдавая себе отчета, написал в газету? Да нет, Семен Захарович умеет отдавать себе отчет в том, что делает... Ладно, хватит копаться в прошлом. Главное, что березовская медь гулко ударила на всю страну...
Но как ни старался Леонтий Иванович успокоиться, он снова и снова возвращался к Голосову. Нет, видно, от его тени, скоро не отделаешься.
— Верно говорят, что правда старее старости, — сказал Леонтий Иванович сыну, оглядывая заводскую окраину города, который уже готовился к празднику.
25
Когда до пуска домны оставались буквально считанные дни, Петр Ефимович Дробот сам стал проводить планерки на строительстве. Он ценил инженера, который вел доменный комплекс, но считал его слишком податливым, а сейчас надо было и характер проявить, и власть применить.