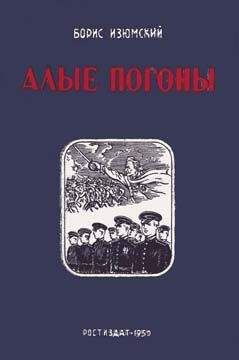Борис Изюмский - Алые погоны
Молодые офицеры вышли из ворот училища.
Непривычным еще было, что солдаты, сержанты то и дело отдавали им честь, что не надо было думать об увольнительной, о возвращении в училище к какому-то определенному часу. Сколько великолепных преимуществ у них появилось теперь! Даже волосы можно было отпустить, а не стричь «под коробок» — на высоту спичечной коробки, как того прежде требовал неумолимый старшина.
— Братцы! — восхищенно воскликнул Павлик. — Отныне мы малокалиберные подполковники! Геша, лапочка, чувствуешь? Осознаешь?
В этот момент Геннадий оконфузился. Приняв железнодорожника за флотского офицера, Пашков откозырял ему, и железнодорожник удивленно, но с достоинством выпрямившись, поднес согнутую ладонь к козырьку.
— Вместе составы водили? Или из уважения к транспорту? — с наигранным сочувствием спросил Павлик у Пашкова.
— Для практики! — огрызнулся Геша.
— А-а-а, — понимающе кивнул Павлик, — у вас острый глаз, потому что вы диспетчер…
Всей компанией пошли выбирать Пашкову кожаные перчатки и модную фуражку — обязательно с коротким козырьком. Генерал пренебрежительно называл такие козырьки «жоржиками», а курсанты широкие козырьки величали «аэродромами» и старательно избегали их.
Затем Геннадий купил цветы и, неопределенно сказав: «Я тут к знакомым…» (Павлик уточнил: «к знакомой»), — завернул за угол.
Снопков, завистливо вздохнув, произнес мечтательно, ни к кому не обращаясь:
— А что за девушка, о братии! Сущий ангел во платии!
Увидев на витрине новый учебник по топографии, Павлик затащил всех в магазин.
— Советую купить, без этой книги офицер не может считаться полноценной фигурой, — с серьезной миной заявил он, сам купил учебник и подбил на это всех остальных.
Они снова пошли, радуясь тому, что можно бродить вот так по городу, ощущая себя какими-то совсем новыми, самостоятельными.
— Товарищи офицеры, — сказал Семен, — обратите внимание: Олег уже нашил на рукав «курицу»!
Так назвали они эмблему, изображающую парашют с крыльями.
— Авансирует!
— Нет, почему же, — не обижаясь, возразил Садовский. — Я буду десантником… Между прочим, сегодня исполнилось ровно двадцать лет, как первые советские парашютисты спрыгнули с самолета.
— Лейтенант Гербов, почему вы не распороли складку шинели на спине? — с напускной строгостью спросил Снопков.
— Модник!
— Не успел, — смутился Семен.
— Ты с пассовыми ремнями разобрался? — озабоченно спросил его Анатолий Копанев. — Как прикреплять шашку?
Для них все было интересно, ново и необычно.
ГЛАВА XVIII
После танцев на выпускном вечере в училище Володя и Галинка в двенадцатом часу пошли вдоль Садовой.
Свежий осенний воздух холодил разгоряченные лица, приносил успокоение и грусть. Казалось, грусть была разлита всюду негустым туманом. Они постояли у золотых грифонов Грибоедовского канала, посидели на скамье напротив Эрмитажа и незаметно очутились у памятника «Стерегущему» в тенистом сквере на Петроградской стороне. Было совсем пустынно. Где-то рядом глухо клокотала вода, вырываясь из кессонов корабля-памятника, да временами раздавался мелодичный звон курантов Петропавловской крепости.
Владимиру и Галинке не хотелось говорить и думать о разлуке, они внушали себе, что просто расстаются на срок, больший обычного, но невольная тревога прокрадывалась в сердца, прорывалась в смятенном взгляде, беспокойном слове.
— Ты к маме моей зайдешь? — спросила девушка, когда они остановились у дерева, скрытые его тенью.
Она откинула голову, прислонилась к коре.
— Конечно! — Володя взял ее руку в свою. — Я в отпуск на следующий год приеду в Ленинград… если ты будешь здесь… А если будешь у мамы, я туда приеду…
— Хорошо, — скорее прошептали, чем сказали губы Галинки, но он услышал и этот ответ и то, что не было сказано: «Я буду ждать тебя…»
Она чувствовала, что сейчас произойдет то желанное, что они сами отдаляли, не потому, что боялись, а потому что были полны иным. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Володя схватил Галинку на руки и, спрятав лицо у нее на груди, замер. Галинка была легкой, маленькой, теплой.
— Ты с ума сошел… Ты с ума сошел, — испуганно зашептала девушка, прильнув к нему.
Время остановилось; сердце падало с огромной высоты и снова стремительно взлетало; горели поцелуи на шее, губах, и только звон курантов приходил из далекого мира вне их.
— Мне хочется все время целовать тебя, — шептал он.
— И мне, — сияли ее глаза.
Они снова пошли, держась за руки, переплетя пальцы, словно боясь потерять друг друга хотя бы на секунду. Скажи она: «Взберись на самую высокую башню», — и он взобрался бы, «Прыгни с моста», — и прыгнул бы. Для него не было на свете ничего неосуществимого, только бы она захотела, только бы выполнить ее желание.
— Ты всегда со мной, — останавливаясь и нежно кладя руки на ее плечи, сказал он.
— А ты — со мной, — прижавшись щекой к его ладони, ответила она.
Владимир так долго не разрешал себе говорить о своем чувстве, так долго сдерживал себя, — а впереди была разлука, и когда встретятся? Когда встретятся? — что сейчас все, что скапливалось и скрывалось, вдруг хлынуло с огромной силой. И, как это бывает у сдержанных людей, когда у них прорвется чувство, ему теперь хотелось бесконечно говорить Галинке о своей любви к ней, целовать ее пальцы, хотелось снова подхватить на руки и кружить, кружить по этим сонным улицам.
— У меня в душе такое… — снова останавливаясь, сказал он, поднеся ее ладонь к своим губам, — такое…
Она молча погладила его губы.
— Какие мы глупые, что раньше… — начал было Володя.
— Нет, нет, — закрыла она рукой его рот, — хорошо, что так.
— Я люблю в тебе все: и эту ладонь, и этот шрамик на губе… Это все для меня.
— Мне хотелось бы стать для тебя самой красивой на свете… чтобы только я, только я…
Они говорили полуфразами, но понимали каждый оттенок слова, изменившийся блеск глаз, прикосновение рук.
— Как радостно жить, зная, что ты будешь ждать, что ты есть на свете…
— Я хочу для тебя самого лучшего… И всегда вместе…
Шепот сливался, и уже нельзя было понять, кому принадлежат слова, кто начинал говорить и кто заканчивал фразу.
Стлался туман над Невой. Светлело предутреннее небо.
Они были одни на всем земном шаре — самые любимые и самые счастливые.
ГЛАВА XIX
Поезд пришел под вечер, и Снопков с Ковалевым двинулись со станции к городу.
Как он изменился за эти два года! Хотя Сергей Павлович временами присылал им в Ленинград местную газету, они не могли представить, что изменения столь разительны.
Прошелестел по асфальтовой мостовой новый автобус. Из-за его широкой спины заискивающе выглянул и снова спрятался «москвич». Всюду высились новые многоэтажные здания. Там, где когда-то всем училищем трудились во время субботников, изящные арки открывали входы в широкие аллеи тополей. В темнеющем небе скользили вспененные облака. Они таяли, окутывались дымчатой пеленой, уходили вдаль. Было много воздуха, и словно клубилась листва, подернутая багрянцем, и по-особому легко дышалось.
— К Сергею Павловичу? — быстро шагая вверх по взгорью, спросил Владимир.
— Конечно.
…Владимир трижды постучал в дверь квартиры Боканова и замер. Почему он так волнуется? Надо унять это прерывистое дыхание. Павлик нетерпеливо переминался позади. За дверью послышались шаги, и ее открыл сам Сергей Павлович. Секунду он вглядывался, а поняв, кто стоит перед ним, радостно воскликнул:
— О! Лейтенанты! — втащил их через порог и, снова оглядев, начал обнимать.
— Ниночка, к нам гости, да какие! — крикнул он. — Раздевайтесь!
Владимир снимал шинель, вешал фуражку, а сам неотрывно смотрел на Боканова. Посеребрились виски, а так, все такой же, такой же близкий…
Вышла маленькая, веселая Нина Васильевна, всплеснула руками, разахалась:
— Да какие они большие! Господи, вот когда я себя старушкой чувствую!
К юношам стал застенчиво ластиться девятилетний сын Сергея Павловича — такой же сероглазый, неразговорчивый, как отец.
Впрочем, сейчас Боканова словно кто подменил: он был шумным, веселым. И когда Нина Васильевна накрыла на стол, он достал из буфета граненый графинчик с вином и торжественно водрузил его посреди стола.
Нина Васильевна сделала большие глаза:
— Тов-а-а-рищ воспитатель, вы совращаете молодежь. Ваша пресвятая педагогика не простит вам этого.
— При такой встрече не грех, — сказал Володя.
— Не будем изменять старинному доброму обычаю, — поддержал его Павлик и ханжески сладко зажмурился, вызвав улыбки.