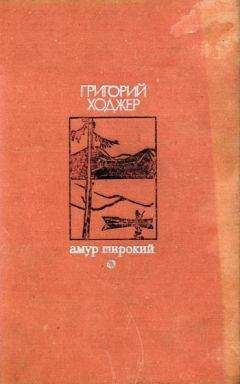Григорий Ходжер - Амур широкий
Токто сделал было шаг к лодке, но остановился, постоял в задумчивости и сел на прежнее место.
— Поезжай в Нярги, тебя осмотрит мой племянник, первый нанайский доктор.
— Разгорячился я, совсем забыл о нем.
— Злой ты стал, Токто, — сказал Глотов.
— Ты и зайца разозлишь своей трубкой.
«Он сильно болен», — подумал Пиапон и умело перевел разговор. Вскоре Токто успокоился. Глотов рассказал о районных новостях. Пиапон поделился зимними планами.
— Наши нынче впервые собираются на Симине рыбачить. Совсем осмелели, — сообщил Токто, — не боятся хозяина Симина, злого Ходжер-аму. Говорят, хозяин Симина не сможет их оставить голодными, как бывало прежде, теперь колхоз.
Глотов засобирался, ему надо было ехать вверх, и он предложил Токто ехать в Нярги на катере, а лодку взять на буксир. Токто согласился. Когда отъехали от берега, он сказал:
— Кунгас, я помню все, что ты говорил, когда мы в партизанах ходили. Ты говорил, что внуки мои будут грамотные, будут мне письма писать, когда я куда-нибудь уеду. О новой жизни много говорил. Все верно, все изменилось. Младший внук на катере мотористом работает. Грамотный. А я тебе не верил тогда. Когда начали жизнь по-новому делать, я ее делал, а сам ничего не понимал. Теперь я состарился, заболел, потому, наверно, стал на все смотреть другими глазами. Теперь вижу, как все хорошо стало. Это смерть подходит, Кунгас. Когда умру, приезжай на похороны, вели хоронить, как партизана, чтобы из берданок стреляли. Хорошо? Чтобы слезы не лили, лучше бы пели.
— Выполню твою просьбу, Токто, но только рано собрался в буни, я, может, раньше тебя умру.
— Тебе нельзя умирать, ты голова района. Как район без головы останется?
— Другую голову поставят, — засмеялся Глотов. Катерок обогнул последний утес перед Нярги, и Токто увидел новое село, где среди зелени белели ровными рядами новые дома. «Вот это Пиапон, — восхищенно подумал Токто, — новое село построил за лето. Умом быстр и на руку скор. За ним разве угонишься?» Токто тепло попрощался с Глотовым и стал тяжело подниматься на пригорок. Он разглядывал новые дома, огороды, удивлялся столбам с белыми, как сахар, чашечками наверху. Возле конторы встретил Хорхоя.
— Здравствуй, отец Гиды, — сказал Хорхой. — Эти столбы для электричества и радио, — стал он тут же объяснять, — провода между ними натянут, и тогда у нас будет электричество и радио в каждом доме.
Электрический свет знаком был Токто, а вот что такое радио — он не знал, но не стал переспрашивать. Хорхой пригласил Токто в контору, где находился Холгитон, одетый во все новое, как на праздник.
— Это он заставил так одеться, — смущенно, словно оправдываясь, проговорил Холгитон. — Говорит, кино будут снимать, надень красивый халат. Это кино потом во всем мире будут показывать. Думаю, если так, то нельзя в старом халате, новый нужен. А еще думаю, вот мы сидели всю жизнь под густым тальником, никто нас не видел, а теперь выходим на середину Амура широкого, все нас увидят. Как же тут не одеться было? Ты к нам в гости?
— К доктору приехал.
— Правильно еделал, нанай приехал к нанайскому доктору. Но тот доктор, который мне лишние кишки вырезал, лучше, чем наш. Сам Кирка говорил.
Задребезжал на стене телефон. Токто, сидевший возле него, вздрогнул, от неожиданности. Холгитон неторопливо снял трубку, подул.
— Але! Нярги! Да.
Токто пересел на другой стул и с удивлением смотрел на Холгитона, так невозмутимо говорившего в черную трубку. «Ко всему они уже привыкли, — подумал он. — Кунгас говорил, что такой телефон будет у нас в Джуене. В Нярги уже есть, значит, скоро и у нас появится».
— Кто говорит? А-а. Здравствуй, здравствуй. Кого надо? Хорхоя? Тут он, тут, — Холгитон передал трубку Хорхою: — Жена Богдана говорит.
Токто привстал, схватил Холгитона за руку.
— Это правда? Это Гэнгиэ говорит, да? А мне можно с ней поговорить?
— Можно, почему нельзя. Хорхой, кончишь говорить, трубку мне дай.
Хорхой кивнул головой. Токто смотрел на черную трубку и не мог оторвать от нее взгляда. Там была Гэнгиэ, в этой черной трубке. Гэнгиэ, любимая его невестка. Токто помнил ее молодой, красивой, какой она была, когда жила в его доме; он не встречал ее после возвращения из Ленинграда. Он слышал о ее занятости на работе, понимал и ее боязнь встречи. Только он любил ее по-прежнему, любил, как невестку, как дочку.
— Слышишь меня? Это опять я! — кричал в трубку Холгитон. — Тут у нас гость. Он к доктору приехал, больной. Кто, говоришь? Токто! Что? Передаю, передаю трубку.
Токто одним прыжком оказался у телефона, вырвал трубку у Холгитона и почувствовал, как тугой комок застрял в горле.
— Отец Гиды! Отец Гиды! — услышал он далекий незабываемый голос бывшей невестки. — Что с тобой? Ты болен? Говори, отвечай, почему молчишь?
Ох, как хотелось Токто много-много сказать хороших, ласковых слов! Но этот комок в горле…
— Отец Гиды, что болит? Сам приехал или привезли тебя? Как чувствуешь себя?
— Ничего, Гэнгиэ, — наконец выдавил Токто.
— Давно заболел? Как мать Гиды? Как Онага? Как дети ее?
— Все здоровы.
— Хорошо, рада я за них. Беспокоюсь о тебе.
— Гэнгиэ, родная, болен я, сильно болит… Но теперь все хорошо, поговорил — и все хорошо. Если б еще увидеть тебя, совсем, может, стало бы хорошо… Приезжай, очень прошу…
По щекам Токто струйкой сбегали слезы, он их не вытирал, он их не стеснялся. Холгигон с Хорхоем отвернулись, им было неловко видеть слезы у этого мужественного человека.
— Приедешь? Правда, приедешь? Здоров я, совсем уже здоров. Когда приедешь? Я за мясом поеду, мясо привезу к твоему приезду.
Токто повесил трубку, попрощался с Холгитоном и Хорхоем и почти бегом направился на берег.
— Эй, Токто, к доктору когда? — крикнул вслед Холгитон.
— Она приезжает, в Джуен приезжает. Мне некогда, за лесом надо ехать.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
В конюшне было так же холодно, как и на улице, не достроили ее, не успели, потому что в первую очередь готовили жилые дома и коровник. Пиапон прошел по конюшне, за ним шагал Ойта, конюх.
— Дед, тебе надо иметь свою собственную председательскую лошадь, — проговорил Ойта.
— Это зачем? — удивился Пиапон.
— Как зачем? Ты часто ездишь, тебе надо иметь резвого скакуна, лучшую лошадь в районе.
— Так. Моему заместителю тоже надо? И бухгалтеру?
— Не-ет, только тебе.
— В тебе собственник заговорил, отцовская кровь. Как же я могу иметь свою лошадь, когда я в колхозе, когда здесь все общее? Нельзя.
Ойта обиженно замолчал. Пиапон выбрал лошадь, которую Полокто возвратил сыновьям. «На его лошади поеду к нему», — решил Пиапон. Он вывел лошадь и стал запрягать в маленькую, изящную кошевку, подаренную ему Митрофаном. Ойта молча помогал ему. Рядом вертелся его сынишка, который по счету, Пиапон не помнил; у Ойты было восемь детей. Этот мальчишка вчера передал ему просьбу Полокто навестить его.
— Ни ты, ни Гара ни разу не ездили к отцу? — спросил Пиапон.
— Нет. Он от нас отказался.
«Дожил. Сыновья стали чужими, — подумал Пиапон. — Жены убежали, как от прокаженного».
— Дети наши ходят каждый день, — продолжал Ойта. — Гэйе бывает, готовит ему еду, ночевать иногда остается.
Упрямый Полокто сдержал свое слово, он отдал колхозу свой большой дом, в котором теперь зимовали семьи, не успевшие к холодам достроить свои избы. Сам он один остался на песчаной стороне, в заброшенной фанзе. Никто не понимал, почему Полокто одиноко живет в заброшенном стойбище, только Холгитон однажды верно высказался:
— Он всю жизнь одиноко жил среди людей. Теперь ему, старику, одинаково, что среди нас жить, что одному в старом Нярги, потому что он все равно одинокий. Мы — колхоз, а он один не в колхозе, не с нами.
Полокто осенью один ловил кету, заготовил юколы себе и собакам, перед ледоставом ушел в тайгу на промысел. Многие думали, что из тайги он вернется к Ойте или к Гаре, помирится с ними, останется жить. Но Полокто возвратился в старое Нярги, в холодную фанзу. Пушнину он сдал в Малмыже, набрал продуктов, заготовил дров и зажил, казалось бы, спокойной жизнью. Навещали его старшие внуки и внучки, сам же он ни разу не появился в новом Нярги, не хотел ни с кем встречаться. Говорили, что изредка он выезжает в Малмыж, будто ездил в Туссер к сбежавшей молодой жене. В конце января Полокто заболел. Кирка ездил к нему, обследовал, но не мог определить его болезнь.
— От одиночества, — высказался Холгитон, — и умрет он от одиночества.
Лошадь запрягли. Пиапон сел в тесную кошевку, посадил впереди мальчишку.
— Дед, попроси его переехать сюда, — сказал Ойта. — Он тебя, может, послушается. Место найдется и у меня и у Гары.
Пиапон тронул лошадь, и она затрусила по укатанной дороге, мальчишка восхищенно закричал, стегнул ее кнутом.