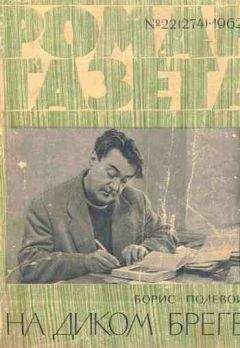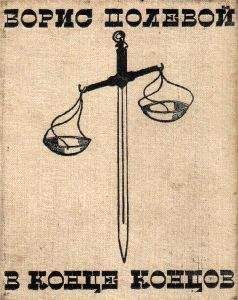Борис Полевой - На диком бреге (С иллюстрациями)
— У нас на базе тоже наобещали с этим «броскам» семь верст до небес и все лесом. «Мы», «мы», а теперь воздух продают. А на бетоне тоже... Мне с вышки-то видно.
— А как думаешь, Мурк?..
— Опять Мурка? Вот сниму туфель и — береги свою бородатую фотографию.
Мурка сидит под лампой в пестром байковом халатике. Ее коротким волосам уже вернулся их естественный цвет. Прихмурив брови, она распяливает на пальцах крохотную распашонку и критически осматривает ее. Губы в недовольной гримасе становятся еще более пухлыми.
— Костька, ну почему у тебя сестра такая бездарная? Видишь, опять шовчик ушел, будет ему жать под мышечкой. — Она сердито отбрасывает рукоделие.
— My... то есть Маша, а Поперечный намедни твово хвалил. Говорил, хоть и назвонил, а обязательство-то вытянет.
— Мой! — Полная нижняя губка своенравно оттопыривается. — Мой тоже любитель сметанку слизывать. Только я ему не даю... И вообще, мальчики, вас бы без меня вши заели... Костька, помнишь, когда я замуж собралась, как ты мне грозился?
— Кто ж знал... А вроде верно, ничего мужик.
— Такой, какой мне нужен, — назидательно произносит Мурка, снова берясь за распашонку. — Вот видишь, где мне не нравится, распорю и снова перешью... Так и с вашим братом...
— Увидит мать мой портрет в «Огнях» — расплачется. Раньше все писала: «Отец в гробу поворачивается от стыда...» — Третьяк повертел в руках исписанный лист. И вдруг спросил: — Сеструха, а это верно, что Старик поправляется?
— Здравствуйте, новость какая! — усмехнулась сестра, заглаживая наперстком шов. — Мой говорит: малую гирю к себе потребовал...
— Молоток! — восхищенно произнес Третьяк. — До сих пор помню, как он мне руки крутнул. Сила! Трифоныч мой ждет его не дождется.
— Один твой Трифоныч, что ли?..
В час, когда в квартире начальника пятой автобазы шел этот разговор, в доме № 1 по Набережной бесшумно расхаживал по пустым комнатам Вячеслав Ананьевич Петин. Он заказал по телефону Москву, министра, и теперь обдумывал разговор, который многое должен был решить. Когда с Литвиновым случилась беда, он попытался осторожно поговорить о замене начальника Оньстроя с руководящим лицом, которое к нему благоволило. Человек этот считал Петина глубоко партийным, остро мыслящим, передовым инженером, доверял ему и, как об этом, будто бы невзначай, рассказывал Петин, иногда звал к себе на дачу, на партию в преферанс. Именно ему, а не министру, который работал когда-то под руководством Литвинова и до сих пор считал себя его учеником, задал Петин деликатный вопрос. Но на этот раз собеседник то ли не понял, то ли не захотел понять намека, стал расспрашивать о здоровье начальника, о том, чем ему помочь. И вдруг сказал:
— Разве можно освобождать Литвинова теперь, когда его жизнь в опасности? Это может его добить. Нет уж, Вячеслав Ананьевич, вы крепкий товарищ, придется вам пока одному...
Что означало «одному», осторожный Петин уточнять не решился. Он работал с бешеной энергией, и хотя дела по всем показателям шли, кажется, хорошо, хотя «бросок к коммунизму» снова привлек к строительству всеобщее внимание, к Петину иногда приходило ощущение, что время работает против него.
А тут эти слухи о выздоровлении Литвинова. Он послал на лесной станок Юрия Пшеничного. Тот вез с собой специально выписанный из Старосибирска огромный торт и большое дружеское письмо. Вернувшись, Пшеничный рассказывал, что Старик, хотя внешне выглядел будто бы и неплохо, почти не поднимается со своей завалинки, говорит слабым голосом. За разговором то и дело прикрывал глаза, дремал, жаловался на боли. Пшеничный не рассказал, что, когда они прощались, Старик вдруг так стиснул ему руку, что гость вскрикнул от боли, и ему показалось, или это действительно было так: синие глаза начальника в это мгновение поглядели на него с откровенной насмешкой. Об этом Пшеничный распространяться не стал. Наверное, показалось. Он был из тех благоразумных людей, какие не любят волновать начальство плохими вестями, предоставлял это делать другим.
Как бы там ни было, времени оставалось в обрез, и Петин решил позвонить министру. К моменту, когда соединили его с Москвой, и тон и содержание разговора были обдуманы.
— ...С Федором Григорьевичем надо все-таки решать, — грустным голосом произнес Петин. — Принимаю все меры, — тут он перечислил всё — от вызова столичного медицинского светила до посылки уникального радиоприемника. — Делаю все, что в моих силах, чтобы вернуть его в строй, но... надежд, к сожалению, мало. Поинтересуйтесь у прилетавшего к нам профессора, он говорил: никаких надежд. — В голосе Петина зазвучало волнение. — Мне тяжело, но, как человек, на которого вы временно возложили ответственность за все это гигантское дело, я обязан просить форсировать решение вопроса о начальнике. Скоро перекрытие, самая ответственная пора, а у меня нет даже прав самостоятельно решать большие вопросы...
14
А Федор Григорьевич Литвинов продолжал идти на поправку. Где-то — где именно, средствами медицины трудно установить, но есть основание полагать, что действительно в день приезда Степаниды Емельяновны, — роковое распутье было пройдено, и теперь здоровье возвращалось, хотя нетерпеливому больному казалось, что происходит это «сугубо медленно». И, обгоняя здоровье, к нему возвращались жизнедеятельность и энергия.
Как только разрешили спускать с койки ноги, он в тот же день оказался у окошка. По его требованию оно было расширено, забрано в раму, отворялось. Чуть свет укутанный в одеяло Литвинов садился возле, открывал, слушал цвиканье красногрудых солидных снегирей, кормившихся на недалекой рябине, жадный, скрипучий крик соек, шумы тайги, тягучие и взволнованные. Слушал голоса, смех, уханье геологов, обтиравшихся утром снегом возле своей палатки, треск костра, на котором в ведре очередной дежурный варил им на завтрак бессменный кулеш. Потом Литвинов выпросил у врача разрешение сидеть на воздухе. Его выводили из жилья, сажали на завалинку. Привалившись к стене, закрыв глаза, он подставлял лицо уже ощутительно пригревавшему солнцу.
С каждой оказией — а таких оказий теперь в связи со спешным развертыванием геологических работ становилось все больше — к нему прилетал кто-нибудь из Дивноярска. Литвинов сажал гостя рядом и начинал с пристрастием выспрашивать обо всем, что происходит на стройке. Привычная память крепко держала всю картину работ, и, выжав из посетителя все, что тот знал, он обновлял ее, как обновляет свою оперативную карту полководец, получив новое разведывательное донесение. А так как быть созерцателем в жизни Литвинов не умел, он стал иногда диктовать Степаниде Емельяновне записки разным людям с советами попробовать то, сделать это, поступить так или этак. Эти записки в Дивноярске получили шутливое название «Письма издалека».
Завернутый в доху, почти квадратный, недвижно сидел больной на завалинке. Он напоминал старого, дремлющего на солнышке медведя. Но у медведя этого были совсем не сонные, а, наоборот, острые, цепкие глаза, и те, кто приезжал его проведать, всегда поражались: откуда Старику известны все новости!
— ...Ох, Федька, ко всякой ты у меня бочке гвоздь! — журила его жена, которой он диктовал очередное письмо. — Ведь не комса же коротконосая, солидный человек! Что там, без тебя не разберутся, иль вместе с тобой в Дивноярске умные люди перевелись? — Она жадно курила, стараясь отгонять дым от больного.
Литвинов хитро жмурился:
— Степа, учти, по здешней, по бурятской мифологии, ведьм не полагается. Неймется тебе человека точить — садись на свою метлу и фюйть отсюда в столицу нашей родины.
Таких шуток женщина не терпела. Она сразу настораживалась:
— Гонишь, да? Может быть, по какой-нибудь другой соскучился? Какая-нибудь там секретарша? — Она уже зло смотрела на мужа, неподвижно выглядывавшего из своего мехового кокона.
— Фу, фу, фу! — довольно посмеивался Литвинов. — Ты у меня, как Петрович говорит, с пол-оборота заводишься. Секретарша, брат Степа, у меня такая: по стойке «смирно» стою. А ну-ка, припишем к письму ей приветик. Как-то она там без меня?
С Валей жена была знакома. Они ладили. Боясь огорчить мужа, Степанида Емельяновна даже скрывала, что та уже не работает в управлении...
«Письма издалека» летели на стройку все чаще, все более широкий круг людей получал их. Они ходили по рукам, читались вслух. Пословицы, меткие характеристики, которыми они изобиловали, быстро распространялись, и люди радовались: Старик шутит, Старик поправляется, Старик берется за дело. Но кому эти письма начинали серьезно мешать, у кого вызывали сначала снисходительную усмешку, потом досадуй, наконец, ярость, так это у Вячеслава Ананьевича Петина. Он как бы физически ощущал, что этот больной, неподвижно валяющийся из-за собственной глупости где-то в тайге человек каким-то образом ухитряется видеть строительство, с нудной въедливостью вникает во все дела, замечает ошибки и, во все вмешиваясь, буквально связывает его, Петина, по рукам и ногам, парализует его инициативу. И кто ему обо всем доносит? Неужели грузин ведет двойную игру? Зачем? Идея «броска» дала этому, в сущности, примитивному и довольно тусклому солдафону возможность оказаться на виду. О нем несколько раз даже упоминали в большой печати, к нему едут изучать опыт партийно-массовой работы. Неужели он, несмотря ни на что, остается преданным Литвинову и только притворяется, что помогает ему, Петину? Это было бы опасно, это надо узнать. И узнать осторожно, чтобы не приобрести в Капанадзе врага или хотя бы недоброжелателя.