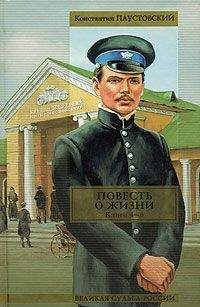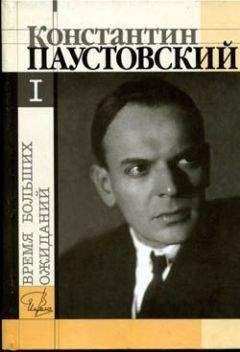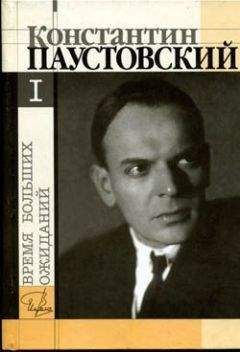Константин Паустовский - Том 5. Повесть о жизни. Книги 4-6
В Ле-Гро-дю-Руа через эту лагуну был переброшен железный мост с единственным в мире настилом из просмоленных толстых корабельных канатов, туго скрепленных друг с другом. По этому бесшумному мосту безопасно проходили трехтонные грузовики.
По словам старожилов, в Ле-Гро-дю-Руа мы были первыми русскими посетителями. Это обстоятельство вызывало у местных жителей по отношению к нам не только прилив любопытства и радушия, но временами и подлинного восхищения.
Нас зазывали в кафе, старались угостить, расспросить о таинственной и ледяной («бр-р!!») Москве.
В одном кафе рыбаки с торжеством притащили к нам единственного обитателя Ле-Гро-дю-Руа, которому посчастливилось побывать в России.
Это оказался маленький, багровый от смущения старичок, заросший, как старый еж, белой страшной щетиной, — ее, должно быть, не брала никакая бритва!
Старичок посматривал на нас виноватыми и ласковыми глазками. Оказалось, что он когда-то служил матросом на французском броненосце «Жан Барт» и во время гражданской войны в 1919 году был со своим броненосцем в Одессе.
В Ле-Гро-дю-Руа все дни стояла немного туманная, холодноватая погода. Море тихо сердилось около молов. По ночам напряженно горели по далеким невидимым берегам и белые и красные, очень чистые маяки.
На рассвете рыбачьи барки уходили в море, а возвращались в полдень. Две-три гостиницы — приют летних туристов — были закрыты на зиму.
Одну из них специально открыли для нас, четырех человек, — протопили, дали полный свет, собрали небольшой персонал, и мы очень дружно вместе с этим персоналом прожили два дня, питаясь в пустом ресторане всеми изделиями местной кухни.
И, наконец, последний городок — Эгморт.
Я уже чувствую недовольство читателя тем, что позволил себе такое отступление от прямой темы предыдущих глав. Единственным надежным оправданием для меня могут быть слова писателя Ренара, который советовал писать совершенно вольно, нарушая все правила и создавая этим (так ему казалось) хорошее настроение у читателя.
Я сильно в этом сомневаюсь, но материал берет пишущих в плен, и избавиться от давления материала можно, только записав его.
В Средние века король Людовик Святой выстроил на низких дюнах вблизи Средиземного моря огромный замок. По лагуне, тянувшейся от моря, к этому замку могли подходить морские корабли.
Отсюда король отправлял в Палестину первые отряды крестоносцев. Замок получил название «Мертвые Воды» из-за неподвижных вод лагуны.
Мы подъехали к Эгморту к вечеру. На закатном небе возникла монолитная громада стен и башен. Она подымалась прямо из песчаной равнины. У ее подножия шелестела сухая трава.
Вокруг не было видно ни души — ни человека, ни лошади, ни птицы, ни машины. Замок казался необитаемым.
Это придавало ему облик загадочный и даже пугающий. Жизнь, наверное, ушла из этой каменной крепости несколько веков назад, лагуна обмелела, корабли уже не подходят к Эгморту, и вообще трудно понять, зачем в этом бесплодном и плоском месте соорудили такую величественную твердыню. Мы подивились ее величию. В стенах был слышен посвист ветра, долетавшего с моря.
Потом через узкие ворота мы въехали внутрь и были ошеломлены: в крепостных стенах, как игрушка в скорлупе ореха, был спрятан прелестный маленький городок с фонтанами, памятниками, скверами, кафе, старинными домами, пением патефонов, магазинами и даже с бензиновой колонкой.
Голуби кружились над островерхими кровлями. Скромно покашливал колокол в часовне. Звук его был так слаб, что не проникал наружу за тяжелые стены.
Алым пламенем перебегала реклама кинотеатра: «Самый длинный день мира».
Жителей городка можно было, должно быть, пересчитать по пальцам.
Мы зашли в маленький и темный магазин. Там было пусто, но дверной колокольчик, потревоженный нами, так долго побренькивал, что наконец из задней комнаты вышел, не торопясь, с салфеткой в руке молодой краснощекий француз — владелец магазина.
Узнав, что мы русские, он всплеснул руками, с отчаянным воплем: «Франсуаза! Франсуаза!» — бросился назад, в недра магазина, и извлек оттуда миловидную молодую женщину — свою жену, чтобы познакомить ее с русскими. Франсуаза, должно быть, стирала. Бормоча извинения и краснея, она вытирала руки о фартук.
Потом, в свою очередь, она привела девочку трех лет, сделавшую нам низкий реверанс, а хозяин привел согнутую пополам старушку с клюкой — свою престарелую мать — и прокричал ей в ухо, что она видит перед собой в Эгморте первых советских людей.
Старушка ласково кивала нам и прижимала к глазам платок, вытирая слезы.
Можно было подумать, что в дом к этому французу вернулись пропавшие и чудом спасенные родственники.
Тотчас появилось вино, кофе, всякие пирожные — «патиссери», а в дверях уже толпились, напирая друг на друга, улыбающиеся жители Эгморта и большое количество мальчишек.
Они — эти мальчишки — первыми подали клич о нашем появлении, и они же последними проводили нас за ворота города в меланхолические равнины Камарга.
Но не бывает, должно быть, добра без худа. В этом милом городке я обнаружил, что забыл в Париже, а может быть, и совсем потерял адрес Имара, и что сейчас уже никак не могу припомнить название того городка, где он живет.
Я проклинал себя, свою память, свою недавнюю болезнь, которая, как всегда, была виновата во всех моих бедах, и прежде всего — в рассеянности.
Мы были удручены. Нас даже не утешило то обстоятельство, что мы заедем в Марсель.
Мосье Морис грустил вместе с нами, подсказывал мне названия разных городков вблизи Марселя, но ни одно из них не казалось мне знакомым.
Так печально закончилась история с картой Атлантического океана. Может быть, Имар и его жена прочтут эти строки, и они послужат для меня некоторым оправданием.
О Марселе я писать не буду. Представьте себе увеличенную в несколько раз Одессу, к тому же во сто крат более шумную, блесткую, разноязычную и анекдотическую — это и будет Марсель.
Обертка от голландского сыра
История с географической картой, которая будет рассказана ниже, случилась раньше, чем рассказанная выше. Она резко повлияла на всю мою жизнь.
Началось с того, что, живя летом в жаркой и пыльной Москве, я питался преимущественно (из-за собственной лени) чаем с сыром и колбасой.
Жил я уже не в подвале на Обыденском переулке, а в коммунальной квартире на Большой Дмитровке, на углу Столешникова переулка, где внизу был меховой магазин. В витрине его много лет сидел широко известный всей Москве волк с ощеренной мордой.
Сыр и колбасу я покупал в соседнем бакалейном магазине. В магазине этом все продавщицы были румяные и толстощекие и носили белые халаты поверх пальто. Халаты на них лоснились и трещали.
Однажды в бакалее мне завернули кусок голландского сыра в обрывок географической карты.
По своей дурной привычке всегда что-нибудь читать или рассматривать за чаем, я начал изучать этот обрывок карты и вдруг почувствовал холодок под сердцем.
Некоторые из нас любили в детстве (и любят до сих пор) придумывать и рисовать карты воображаемых великолепных мест, почти всегда — девственных и пустынных.
В эти карты, должно быть, каждый вкладывает свое представление о земном рае, о счастливых и богатых краях, куда с первых лет жизни стремились его помыслы.
И вот обрывок карты такой заповедной страны — и невыдуманной, а действительно существующей — лежал передо мной.
Бесконечные леса, озера, извилистые реки, едва намеченные пунктиром заросшие дороги, пустоши, деревушки, лесные кордоны и даже постоялые дворы — все, о чем я мечтал в своей жизни, было собрано здесь.
Обрывок карты относился к Мещерским лесам.
В конце лета я поехал туда, и с тех пор вся моя жизнь круто переменилась, окрепла, приобрела новую ценность, — впервые я узнал как следует срединную Россию. С тех пор сильнейшее чувство любви к ней, к своей, до тех пор почти неизвестной, но коренной родине, ни на минуту не покидало меня, где бы я ни был — в Калабрии или в Туркменистане, на сырой Балтике или в Альпах.
Для родины всегда находишь любое оправдание, как и для матери. Только сыновьям дано понимание материнского сердца, проникновение в его скрытую ласковость, в его муку, в его небогатые радости.
После Мещеры я начал писать по-другому — проще, сдержаннее, стал избегать броских вещей и понял силу и поэзию самых непритязательных душ и самых как будто невзрачных вещей, — к примеру, ветерка, несущего над выгоном запах дыма и качающего рыжие султаны сухого конского щавеля.
И еще одна карта сыграла большую роль в моей жизни — карта Кара-Бугаза. Ей я был отчасти обязан первой своей замеченной книгой. Но и только. На дальнейшей моей жизни Кара-Бугаз не оставил сколько-нибудь явных следов.