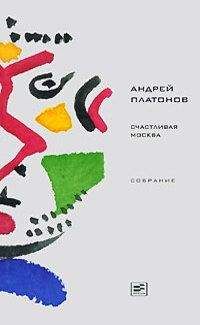Андрей Платонов - Том 2. Чевенгур. Котлован
В барак пришел Вощев, а за ним Медведев и весь колхоз; лошади же остались ожидать снаружи.
— Ты что? — увидел Вощева Жачев. — Ты зачем оставил колхоз, или хочешь, чтоб умерла вся наша земля? Иль заработать от всего пролетариата захотел? Так подходи ко мне — получишь как от класса!
Но Вощев уже вышел к лошадям и не дослушал Жачева. Он привез в подарок Насте мешок специально отобранного утиля в виде редких, непродающихся игрушек, каждая из которых есть вечная память о забытом человеке. Настя хотя и глядела на Вощева, но ничему не обрадовалась, и Вощев прикоснулся к ней, видя ее открытый смолкший рот и ее равнодушное, усталое тело. Вощев стоял в недоумении над этим утихшим ребенком, он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатлении? Зачем ему теперь нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором истина стала бы радостью и движеньем?
Вощев согласился бы снова ничего не знать и жить без надежды в смутном вожделении тщетного ума, лишь бы девочка была целой, готовой на жизнь, хотя бы и замучилась с теченьем времени. Вощев поднял Настю на руки, поцеловал ее в распавшиеся губы и с жадностью счастья прижал ее к себе, найдя больше того, чем искал.
— Зачем колхоз привел? Я тебя спрашиваю вторично! — обратился Жачев, не выпуская из рук ни сливок, ни пирожных.
— Мужики в пролетариат хотят зачисляться, — ответил Вощев.
— Пускай зачисляются, — произнес Чиклин с земли. — Теперь надо еще шире и глубже рыть котлован. Пускай в наш дом влезет всякий человек из барака и глиняной избы. Зовите сюда всю власть и Прушевского, а я рыть пойду.
Чиклин взял лом и новую лопату и медленно ушел на дальний край котлована. Там он снова начал разверзать неподвижную землю, потому что плакать не мог, и рыл, не в силах устать, до ночи и всю ночь, пока не услышал, как трескаются кости в его трудящемся туловище. Тогда он остановился и глянул кругом. Колхоз шел вслед за ним и не переставая рыл землю; все бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована.
Лошади также не стояли — на них колхозники, сидя верхом, возили в руках бутовый камень, а медведь таскал этот камень пешком и разевал от натуги пасть.
Только один Жачев ни в чем не участвовал и смотрел на весь роющий труд взором прискорбия.
— Ты что сидишь, как служащий какой? — спросил его Чиклин, возвратившись в барак. — Взял бы хоть лопаты поточил!
— Не могу, Никит, я теперь ни во что не верю! — ответил Жачев в это утро второго дня.
— Почему, стервец?
— Ты же видишь, что я урод империализма, а коммунизм — это детское дело, за то я и Настю любил… Пойду сейчас на прощанье товарища Пашкина убью.
И Жачев уполз в город, более уже никогда не возвратившись на котлован.
В полдень Чиклин начал копать для Насти специальную могилу. Он рыл ее пятнадцать часов подряд, чтоб она была глубока и в нее не сумел бы проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни холод и чтоб ребенка никогда не побеспокоил шум жизни с поверхности земли. Гробовое ложе Чиклин выдолбил в вечном камне и приготовил еще особую, в виде крышки, гранитную плиту, дабы на девочку не лег громадный вес могильного праха.
Отдохнув, Чиклин взял Настю на руки и бережно понес ее класть в камень и закапывать. Время было ночное, весь колхоз спал в бараке, и только молотобоец, почуяв движение, проснулся, и Чиклин дал ему прикоснуться к Насте на прощанье.[11]
Декабрь 1929 — апрель 1930 гг.
Примечания
1
Публикуя произведение в журнале «Новый мир», дочь писателя Мария Андреевна Платонова поместила несколько опущенных автором фрагментов (по авторизованной машинописной копии). Эти варианты представляют безусловный интерес для уяснения идейно-художественной задачи автора.
Вощев перестал спать и открыл глаза. Утренний свежий мир светился сквозь щели барака, и Вощев почувствовал свое тело как вновь зачатое: вчерашний труд истребил в нем старые внутренности, но сон наполнил его первоначальной плотью.
Чиклин еще спал, и Козлов рядом с ним, а другие лежали сбоку, одинаково уставшие от земли. Пусть они спят пока, чтобы вместе с дыханием из них выгорала отжившая кровь и пустое место наливалось густой ощущаемой влагой. У Козлова ниже ушей возобновилось биение материнских родников и уже порозовело оскудевшее лицо. Значит, ему скоро пора пробудиться и сознательно жить.
Вощев отворил дверь наружу, впуская воздух для дыхания спящих, а сам вышел прочь, чтобы не мешать течению свежести на лежащие лица. В природе был теплый свет, и раздавался ровный шум суеты мелкой жизни, которая тоже добывала себе смысл жизни кое из чего.
Недалеко находился заглохший овраг, и одинокое дерево наклонилось над ним безветренными ветвями, ища своего рождения в земле или посмертного сожительства с нею. По ту сторону оврага была еще какая-то впадина, и оттуда, из невидимого предприятия, выходил изжитый машиной пар. В стороне ото всего сидел, согнувшись, в траве бедный человек, его палка была воткнута в землю, и узелок с имуществом висел на ней: он тоже, наверное, жил с усилием и надеялся получить свое счастье полностью, а может быть, существовал лишь терпеньем любопытства.
Вслед за своим наблюдением того человека Вощев услышал пение тихого голоса:
— Липа векова-ая…
Дальше голос стал тише, продолжая песню шепотом, и вовсе смолк. Вощев зашел обратно в барак. Там Чиклин глядел непомнящими глазами и безмолвно произносил песню ртом; он уже очнулся, но еще не мог вспомнить своей жизни — и помнил песню, готовясь жить сначала.
Козлов же хотя и спал пока, но карябал грудь ногтями, мучаясь с закрытыми глазами, а потом сразу приподнялся и боязливо закричал.
— Ты чего испугался? — спросил Вощев, приближаясь на помощь.
— Крыса в груди грызется!
Чиклин встал на привычные ноги и умело вгляделся в тело Козлова, где находилась крыса; Чиклин захотел ее спокойно убить.
— Рот зажми! — сказал он Козлову. — И живот схвати руками, а то она выскочит.
Козлов бережно сжал рот и вдавил рукой живот, чтоб крысе было туже выходить, но вдруг почувствовал свою внутренность свободной и сердце легким.
— Она — вона! — показал он на свой пиджак, которым прикрывал ноги.
Чиклин с твердой силой ударил босой подошвой по пиджаку, но место под ним было пусто.
— Ушла! — обнаружил Чиклин.
Козлов грустно обиделся:
— Я вот теперь, как говорится, заявление в охрану труда подам, крысы рабочему сердце грызут.
2
— Крысы, товарищ Пашкин, — сказал ему Козлов. — Они мне сердце, как говорится, грызут и грызут. Пашкин никогда не спешил отвечать, чтобы люди видели его думающим, а отвечал небрежно: пусть сущность его слова действует сама по себе.
— Где крысы? Зачем они придут сюда? Ведь у вас женщин нету — грязи заводить некому! Ты, наверно, спишь с надбавкой, и тебе снятся животные. Тут же был санврач! А если крысы — организуйте кружок Осоавиахима и травите любую тварь, практикуйтесь против буржуазии на мелочи!.. Это даже хорошо, что хоть крыса будет, как вы не понимаете?!
— Мы понимаем, — с уважением сообщил Сафронов. — Нам деваться некуда, приходится все понимать.
Морщась от забот и привычной осведомленности, Пашкин обошел своим шагом жилое помещение, изучая невзрачным взглядом гигиеничность и кубатуру, и нашел условия приличными: ведь пролетариат еще только делает себе существование, так что требовать ему блага не с кого. Пашкин угрюмо знал почти все и даже скучал.
3
…Их ноги ступали с силой жадности, а телесные корпуса расширились и округлились, как резервуары будущего, — значит, будет еще будущее, значит, настоящее несчастно и далеко до конца. Вид этих тревожных женщин доставил Прушевскому терпение на свое дальнейшее неизъяснимое существование вплоть до ближайшей сознательной гибели. Явившись в техническую канцелярию работ, Прушевский сел за составление проекта своей смерти, чтобы скорее и надежней обеспечить ее себе. После окончания проекта Прушевский устал и спокойно уснул на диване. На завтра ему осталось составить лишь объяснительную записку к проекту, а затем найти достаточно прелестную женщину для однократной любви с ней, после удовлетворения любви к Прушевскому всегда приходило нормальное желание скончаться, и такой же точный расчет он сделал и теперь.
4
И теперь Пашкин гордился Козловым — он верил в тот близкий день, когда весь пролетариат примет образ авангарда своего: это и будет социализм. Поэтому Пашкин всюду показывал Козлова как образцовый элемент активиста, зарожденного в массах умелым профсоюзным руководством. Благодаря наличию Козлова Пашкин уже не смущался более Жачева: он знал, что Жачеву надо дать лишь должность хотя бы сборщика членских взносов и он перестанет требовать масло у ответственных лиц, ибо сам будет накануне питания жирами.