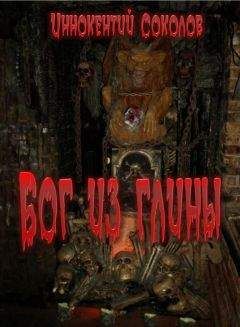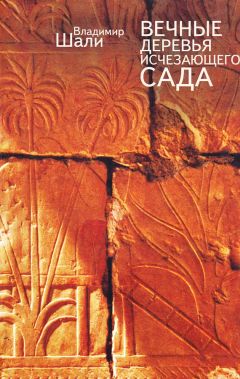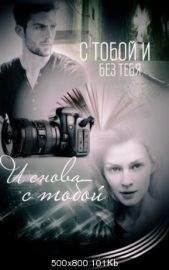Александр Серафимович - Том 3. Рассказы 1906–1910
Ночь.
* * *Для меня ночь и день одно и то же. Иногда я совершенно забываю, что здесь есть люди, и хожу, не слыша ни голосов, ни разговора, ни звука шагов, как будто кругом пусто и молчаливо.
Не изменяет этого ощущения и прислуга, которая приносит самовар, входит убрать комнату. На ее замкнутом лице то же, что и у всех: победителей не судят.
Даже у горничных, этих побежденных из побежденных, торгующих своим телом в этих подлых стенах, то же отвращение к побежденным.
…Еще целый месяц!..
Я долго не могу уснуть с вечера, лежу и думаю. О чем? Ни о чем. Ведь все передумано.
Не думаю, а прислушиваюсь к темному, свернувшемуся тяжелым комком чувству одиночества и ненависти. Я теперь понимаю ощущение гадливости, почти злобы, когда встречаешь на улице просящих, плохо одетых в рванье, с сквозящим грязным телом людей. На бледных лицах их выражение готовности на все – убийство, грабеж, издевательство над мертвыми. И от них всегда пахнет водкой.
Вот только бы подняться мне из побежденных в стан тех, кого не судят. Это – закон жизни в громадной проклятой каменной пустыне, которая бесплодно шумит вокруг.
Я берегу свою злобу, берегу свою ненависть, как присосавшихся к груди детей.
Стены моего номера очень тонки. Слышно, как там ходят, разговаривают, передвигают стулья, слышен малейший шорох.
Нет, я ничего не слышу, это я прежде слышал. Для меня немы эти тонкие перегородки, как будто это холодные стены в полтора аршина толщины. Я не знаю, кто там, чего им нужно, да и не интересуюсь… Еще целый месяц!
А я таки, верно, ослабел. Мне трудно вставать с постели, да и лень, апатия, – не хочется подыматься. Уже не мучает чувство остроты голода. Как будто я давно раз навсегда пообедал, и теперь об этом не стоит заботиться и думать.
С вечера трудно уснуть, но когда усну, сон наваливается тяжело, темно и молчаливо, без сновидений. Стоит ровная, траурная мгла, бесконечно немая и пустынная.
Она, положим, стоит и днем, но, обманывая себя, в ней движутся, ходят, разговаривают люди, стоят дома, светит тусклое солнце. Ровная, черная молчащая мгла.
И вдруг среди ее немой черноты и пустоты холода голос:
– Слышишь?
Я вскочил с бьющимся сердцем, опираясь локтем о подушку, вслушиваюсь с расширенными зрачками.
Окно, медленно и слабо играя фосфорическим отсветом, проступает в темноте переплетом. Загораживая, едва чудится, стоит стена. А там, внизу, я знаю, искривленное, с протянутыми узловыми сучьями дерево.
Но не это ударило по сердцу живой, неведомой, трепещущей болью, а заглушённые, подавляемые, должно быть, сквозь стиснутую в зубах подушку рыданья, женские рыданья за перегородкой.
Вероятно, до нее долетел шорох, когда я приподнялся, и там все смолкло.
Я затаил дыхание, не шевелюсь. Как будто теперь вопрос жизни – не подавать о себе признака.
Неловко, рука затекла, локоть онемел, но я все так же напряженно неподвижен, все так же не шевелюсь, удерживая дыхание.
Тишина. Медленно течет долгая ночь. За перегородкой затаились чьи-то подавленные рыдания.
Вероятно, там думают, что я уснул, и опять слабо, сквозь стиснутую подушку: ы… ы… ы…
Это невыносимо. Все так же не дыша, я подымаюсь, без малейшего шороха крадусь, как вор, прикладываю ухо к перегородке. Я не знаю, кто там, знаю только, что чье-то разрывается сердце.
И вдруг осеняет воспоминание: серо-дымчатая мгла тумана, и в ней утонул город. Только внутри вагона ярко освещено: лица, двери, потолок и чистый девичий лоб, и белая шейка, и ясные глаза.
Да ведь это – она, это там заглушенно рыдает, она, покинутая, обобранная, с отнятой жизнью. Это она!
Я запускаю ногти и до боли прижимаю ухо к шершавым обоям.
Но что я могу сделать? Что я могу сказать ей? Как я могу помочь ей? Не предложить же стакан воды для успокоения.
Должно быть, у меня хрустнули пальцы – там опять все смолкло, и медлительно царит немая ночь с фосфорическим, отсвечивающим окном.
Я тихонько пробираюсь на кровать и, неглубоко дыша открытым ртом, прислушиваюсь. Теперь не уснешь. Буду ждать, пока посветлеет стена за окном, а в комнате проступят из редеющего мрака комод, стол, умывальник.
Опять. Боже мой, что же это!.. Так же заглушенно, так же душу разрывающе. Нет, это не девушка, это не такие слезы, Ведь у нее все-таки впереди жизнь, ведь можно залечить рану сердца, можно снова и полюбить, и дышать, и радоваться солнцу.
Нет, это не она. Это – и у меня мурашки холода ползут, – это – отнимающие всякую надежду старые материнские слезы.
И я опять крадусь, дрожа, и прикладываю ухо к жестким обоям.
Как я не угадал? Я ее никогда не видал и не увижу, но ведь она худенькая старушка, везде ходит в стареньком салопе, везде умоляет о сыне своем…
Я знаю, я знаю эти страшные слезы.
Так проходит ночь, и начинают проступать комод, стол, стулья… о сыне своем, приговоренном…
* * *Дни идут. Я не знаю, кто мои соседи. Они меняются почти каждый день. Часто номера пустеют.
Я по-прежнему жду. Но клубок ненависти и ожесточения растаял в груди. Я опять хожу по улицам и смотрю на людей, и у каждого из них – свое лицо, свои думы, свое горе, свои слезы.
И еще я знаю, отчего можно жить в этом огромном каменном, раскинувшемся на громадное пространство городе: оттого, что люди связаны, кровно связаны друг с другом слезами, которые в тиши ночной просачиваются сквозь стены.
Счастливец*
Сквориков за всю свою жизнь был счастлив только несколько часов.
Это случилось так.
Он стоял перед приставом с готовностью, умилением и чуть нагнувшись. У пристава был большой живот, обвисшие щеки и красный нос.
Из соседней комнаты доносился скрип перьев. В табачном дыму синевато проступали нагнутые набок головы писцов, которые помогали себе, языком ловя ус. Помощник, в новеньком мундире, стоял лицом к стене, прижимая к уху телефонную трубку, и, не торопясь, с выражением на лице особенного значения того учреждения, где он служил, говорил с приостановками:
– Откуда говорят?.. Так-с… Хорошо… Да… да…
Пахло табаком, чернилами, бумагой и потными ногами.
Хриповатым на все присутствие басом пристав проговорил:
– Хорошо-с, молодой человек, хорошо-с, я вас беру. Помните, мне необходимы службисты, необходима аккуратность, исполнительность и чтоб – ни-ни!..
Он погрозил толстым пальцем, на котором старая кожа лежала вялыми складками.
Сквориков так же испуганно, стараясь в выражении готовности еще больше нагнуться и в то же время держать по швам вылезавшие из коротких рукавов голые руки, с раздувавшимися от умиления ноздрями, хотел сказать: «Вы заместо мне родного отца», но побоялся и сказал:
– Рад стараться…
– Ни-ни-ни!..
И опять погрозил пальцем.
Относился ли этот жест к продымленным табаком и особенным духом стенам, в которых – полицейская тайна, или к взяткам, которые густо, как табачный дым, висели в самом воздухе, или к щекочущему водочному запаху, или просто был жест строгого, но справедливого отца, – Сквориков не знал и, истолковав скорее в последнем смысле, проговорил: «Никогда… в жизни моей… не то чтоб… совершенно…» – и замолчал с горлом, перехваченным благодарностью, затаенными слезами и готовностью на самопожертвование, вытягивая по швам вылезавшие голые руки.
– Сегодня у нас… – пристав поднял над обвислыми мешками глаза к потолку, – первое…
– Первое число, – торопливо подтвердил не осмелившийся упредить Сквориков.
– Десятого к девяти часам являйтесь на службу… Форму сшейте… Ну, с богом!
Сквориков попятился, поклонился, еще попятился, качнулся спиной в притолоку, поклонился, спиной протерся по притолоке к двери и, осторожно повернувшись уже во второй комнате и мелко кланяясь на обе стороны писарям, которые почему-то весело в голубоватых слоях дыма, нагнув головы набок, ловили языком усы, пошел к выходу. В прихожей поклонился городовым и слегка тщедушному субъекту за деревянной решеткой.
Уличный шум и мелькание, гул и говор в легкой дымке радостного возбуждения и растерянности накатились и оплыли его, как набежавшие на одинокий камень волны.
– А? Что же это такое, господи!..
«А, и похож ты на пристава… а?.. И отчего ты на пристава похож?» – говорили ему, когда он был мальчишкой. И отец, бывало, когда напьется, распояшется, сидит красный перед самоваром и подразнивает мать: «Мать, а мать… Пашка-то наш – вылитый пристав, а?..» А мать сердится и кричит.
Впрочем, все это давно и всплывает среди этой толчеи, шума, говора, мелькания – всплывает без связи, оторванно, ненужно, и тонет.
Он идет по панели, и кругом – громадные, теряющиеся верхушками дома, текучая, ни на минуту не замирающая толпа, и нет ей конца, и нет ей начала; льется без умолку, выворачивается из других улиц, заворачивает и пропадает за углами. И он идет, крохотный, затерянный, ничтожный в этом водовороте.