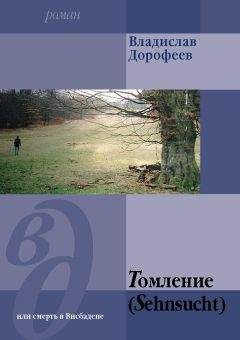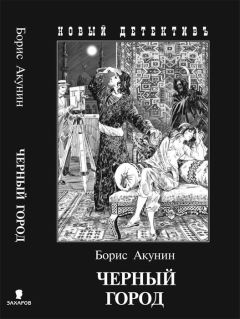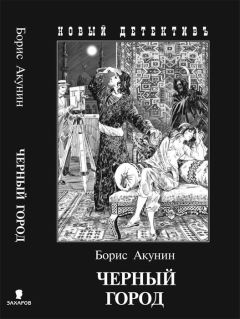Борис Полевой - Глубокий тыл
— Не надо, — отстраняется она и торопит: — Пошли, пошли!..
И опять, скользя и спотыкаясь, они карабкаются через горько пахнущие пожарища, через опустошенные огороды, через покинутые усадьбы, овевающие их душными запахами некошеных, сохнущих на корню трав. Эта часть пригорода, выжженная еще в дни немецкого наступления, совершенно пустынна. Ни души. А когда беглецы, миновав развалины какого-то большого здания, оказываются среди разворошенной, вздыбленной земли, их охватывает, душит тяжелый, сладковатый смрад.
— Тут глиняные карьеры. Они полны трупов. Их сваливали туда с машин, как мусор, в прошлом году осенью. Не потрудились даже как следует закопать… Тысячи: старики, женщины, дети… Между прочим, товарищ Женя, этой операцией руководил сам господин комендант. Говорят, он даже получил за это орден…
— Звери! — ознобным голосом произносит девушка и, стараясь не дышать, бегом бросается прочь от этого страшного места.
Дождь усиливается. Тьма уплотняется так, что Курту снова приходится вести свою спутницу за руку по еле заметной тропке, бегущей от страшных карьеров к темнеющей вдали лесной опушке. Среди деревьев тише, теплее. Терпко пахнет мокрая хвоя, но Женю все еще преследует липкий, сладковатый дух тления. Он тянется за ней, как в кошмаре, и ни раскисшая почва, на которой расползаются ноги, ни ветви, невидимо хлещущие ее по плечам, не могут заставить забыть жуткий запах.
Они бегут до тех пор, пока дыхание у девушки не пресекается.
— Подождите, — просит Женя и, обессиленная, цепляется рукой за березу.
Остановившись рядом, спутник прикрывает ее полой кителя. Она чувствует, как бьется его сердце.
Сколько раз мечтал он о том, что когда-нибудь эта белокурая головка приникнет к его груди! Сейчас, когда мечта неожиданно сбылась, он смущен, неподвижен. Он замер, боясь пошевелиться.
— Я хочу вам сказать, товарищ Женя, что таких девушек, как вы, раньше не было, — произносит он вдруг.
— У вас? — лукаво спрашивает она, поднимая мокрое от дождя лицо.
— У человечества. — Это звучит очень торжественно. — Вы удивительная, вы сами не знаете, товарищ Женя, какая вы есть.
Девушка ждет, что он еще скажет. Но Курт молчит, и, вздохнув, она, стараясь в решительности тона спрятать разочарование, произносит:
— Идемте.
— Да, да, пошли. — И, снизив голос до шепота, Курт предостерегает: — Теперь — самое трудное. Недалеко опушка, и там передовая. Здесь много войск. Надо попробовать пробраться незаметно. А не выйдет — вы помните, как действовать… Главное — проскочить опушку, за ней вырубка, и там наши…
Курт снял очки, протирает. Он почему-то медлит.
— Что еще? — встревоженно спрашивает Женя, чувствуя, как против воли в душу ее заползает страх.
— Я думаю… Если со мной что-нибудь… случится… Обещайте, когда кончится война, написать моей матери в Мюнхен, что этот последний день я был с вами. Это очень важно, товарищ Женя. Адрес даст Густав Гофман на МПГУ.
Просьба рассердила девушку.
— Не смейте думать об этом!.. Слышите? — И, встряхнув мокрыми, отяжелевшими косами, она с напускной лихостью добавляет: — Разве впервой? Пошли! Ну, пошли же!
Но Курт все еще возится с очками.
— У меня к вам еще очень большая просьба, — не без труда произносит он, весь как бы поглощенный протиранием стекол. — Поцелуйте меня, товарищ Женя.
Даже в предутренней мгле видно, как мучительна краснеет его лицо. Девушка встрепенулась, обернулась к нему, решительно заглянула в его светлые, близорукие глаза и приподнявшись на цыпочки, обхватив рукой его шею, крепко приникла к холодным, мокрым от дождя губам. Курт так растерялся, что не сразу ответил ей. Когда же губы его ожили, Женя решительно отстранилась.
— Потом…
Как необыкновенно, как радостно забилось сердце девушки! Тут, под дождем, в этом темном, зловеще шелестящем лесу, ей рядом с ним хорошо, тепло. Когда-то, когда они вновь встретились в избе штабной деревеньки, она с печалью поняла: нет, то, что между ними было, нельзя назвать любовью. Но в этом изувеченном городе, где они оба жили меж чужих, страшных для них людей, где их на каждом шагу ждала опасность, где им приходилось все время играть ненавистные роли, тут, в гуще войны, вдруг пришло к ней это живое, еще по-настоящему не изведанное чувство, пришло властно, захватило ее. Оно светило ей во мраке беспокойных ночей, призывало к смелости в острые мгновения ее опасной работы, спасало от ненависти хозяйки, бодрило в минуту душевной усталости, укрепляло надежду.
Но Курт как бы не замечал этого. Его светлые глаза с благоговением смотрели на девушку. Взяв Женю под руку, он вел ее осторожно, будто нёс какую-то ценную, нежную, необыкновенно хрупкую вещь, боясь, что она рассыплется от первого неосторожной прикосновения. И только теперь руки его по-мужски обняли ее…
— Потом… — шепотом повторила Женя, чувствуя, как в ней все ликует. Даже страх прошел, и как-то сама собой возникла вера, что все обойдется, они благополучно минуют фронт, и тогда…
— Товарищ Женя… — Ошеломленный той же радостью, Курт весь тянулся к ней.
— Потом, милый, потом… — И вдруг, улыбнувшись, она тихо произносит: — Ты молишься на меня, как на икону какую-то, чудак… А я, видишь, простая, обыкновенная девушка, а ты все товарищ Женя, да товарищ Женя!
Она сама прижалась к нему. И хотя дождь припустил, с ветвей березы лило, а лес дышал промозглой сыростью, оба они готовы были стоять вот так, прижавшись друг к другу, позабыв и о страшной опасности, подстерегающей их за каждым деревом, и о неподвижном теле, валявшемся в бургомистрате, будто тряпичная кукла, и о страшном запахе тления, которым дышали глиняные карьеры, забыв обо всем, даже о войне… Мина, разорвавшаяся где-то поблизости, напомнила о том, где они и зачем сюда пришли.
— Милый, пошли… — тихо попросила Женя, сама поражаясь тону, каким были произнесены эти слова.
И тут Курт вдруг сказал: — Ах, как это хорошо — жить!
— Да, милый, да, — ответила она и заторопила: — Пошли, пошли…
И они шли, стараясь ступать как можно осторожнее. Ливень схлынул, но дождь еще продолжался, спорый, обложной. Как Женя ни напрягала слух, в шуме ветра, в шелесте ветвей она ничего не могла различить, кроме выстрелов и разрывов. Лес как бы вымер и затаился. Шелестела под дождем листва. Шумели ветви. Все, что произошло: и разговор и поцелуи, — казалось прекрасным, странным, внезапно оборванным сном.
Теперь они двигаются перебежками. Ступая на цыпочках, сделают несколько мягких прыжков, остановятся, застынут у дереза, прислушаются. Снова бросок, и опять застывают. Жене, не привыкшей к лесным скитаниям, трудно. Но она старается не отставать. Она видит, как Курт снимает с пояса и кладет в карман кителя штурмовой нож, и догадывается, что сейчас вот настает самое опасное. И вновь овладевает ею леденящая, сковывающая движения жуть. Если бы он знал, как ей страшно! От каждой хрустнувшей ветки мороз подирает по коже, каждый посторонний шорox пронзает, будто электрический ток. Хочется броситься на землю, зажать уши, застыть…
— Хальт! — раздался вдруг резкий окрик так близко, что Женя вскрикнула.
Темная тень отделилась от дерева. Мокрый ствол автомата нацеливается то на Женю, то на ее спутника.
— Свои, солдат, свои, — добродушно отвечает Курт, будто и не обращая внимания на наведенное на него оружие. — Пароль Мюнхен… Отзыв?
— Мессер…
— Фрейлейн Марта, прошу вас, не бойтесь.
— Чего же мне бояться, господин обер-лейтенант? — отвечает Женя. Она старается говорить беспечным тоном, хотя всю ее так и трясет. — Ну, и забрели же мы в трущобу! Я совсем мокрая… Кто тут? Что ему надо?
— Действительно, мы, кажется, заблудились… — Голос у Курта спокойный. В нем слышится даже досада и смущение.
Услышав пароль, часовой опустил автомат. Но видно: палец его лежит на спуске. Сам часовой взволнован, насторожен. Он испытующе смотрит на задержанных. Ну нет, у Курта достойная партнерша.
— Я вам говорила, ведь говорила же: мы не туда идем! — продолжая игру, капризно сетует девушка. — Всю ночь таскал меня по дождю и вывел неизвестно куда… Ну, чего вы стоите? Спросите у него, где дорога.
Чистый немецкий язык, на котором ведется весь этот диалог, успокаивает часового. Обычная картина: ты тут мокнешь в секрете, боишься папиросу закурить, а эти эсесовцы шляются под ручку с хорошенькими девчонками, дерьмо этакое!..
— Я обязан отвести вас к командиру, господин обер-лейгенант, — хмуро говорит он.
— И отлично, мы хоть немножко обсушимся и подождем там рассвета, — отвечает Курт. — Фрейлейн, вашу руку. Только вы, эй, как вас, показывайте дорогу! Тут можно шею свернуть.
Когда часовой проходит вперед, Курт, вырвав руку из кармана, вскидывает и стремительно опускает нож. Высокая фигура в черном клеенчатом плаще на миг застывает, как бы споткнувшись и ища равновесия, и тут же валится на траву. Падая, часовой издал неясный тоскливый вскрик. Курт хватает девушку за руку. Уже не заботясь об осторожности, они выбегают из кустов на вырубку. Тут светлее. Без труда можно различить березовые пни, белеющие в полумраке квадраты заросших травой поленниц и даже темную листву брусничника, ласково блестящую от дождя. За вырубкой и, кажется, совсем недалеко темнеет лес. Там свои конец всего страшного. Спасение! Лавируя между пнями, они бегут, стараясь как можно быстрей миновать открытое пространство.