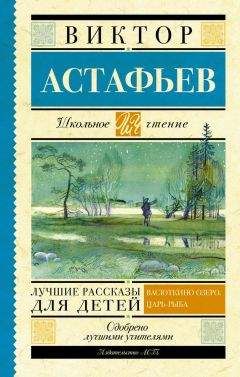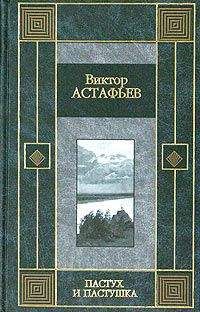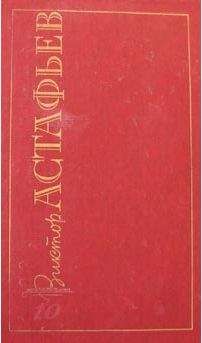Виктор Астафьев - Затеси
— Что с вами? — быстро отбросив плащ, приподнялся я. — Вы ранены?
— Нет-нет! — торопливо отозвался человек и, открыв глаза, протянул в мою сторону толсто замотанную руку. — Гемофилия.
Я вопросительно и молча глядел на рыбака.
— Несвертывание крови. Болезнь такая. Конечно, не таскайся я по тайге с детства, не побывай на фронте, не повидай всяких страстей и чудес, так и сказал бы, наверное: «Какие же черти носят тебя по лесу с такой болезнью?» А тут поскорее поднялся, подшевелил огонь, бросив в него сухих сучков, чтоб ярче горело, подсунул на уголья котелок с остатками чая и спросил:
— Чем я могу вам помочь?
— Если есть сухая и чистая тряпица… Я достал из кармана носовой платок, протянул его рыбаку, он кивнул — сгодится. Вспомнив про хлеб — он у меня хранится в холщовом кошельке, — вынул поклажу из рюкзака.
Долго и осторожно разматывал я руку незнакомца, и чем далее разматывал, тем мокрее и тяжелее делались от крови тряпки, и я ожидал увидеть рану большую на руке, но, размотав кисть и вытерев пальцы, нигде ничего не обнаружил.
— Ерш, — слабо и виновато улыбнулся человек. — Клюнул, ведь клюнул, проклятый! Как я ни остерегался, все-таки ткнулся, и вот…
Осторожно, не очень туго я замотал руку рыбака и дивился этакой оказии: на брюшке большого пальца, едва заметная, возникла бисеринка, и пока я прицеливался обмотнуть на руке платок, налилась со спелую брусничнику, округлилась, лопнула и тонкой ниточкой потянулась по запястью под рукав.
— И ведь когда стараешься не наколоться, не поцарапаться, обязательно наколешься и поцарапаешься, — продолжал уже бодрее говорить человек, как бы оправдываясь передо мною.
— Это уж точно, — поддержал я, — рябчика манишь — хоть бы не кашлянуть, хоть бы не кашлянуть, а тебя душит, а тебя душит… Ну и забухаешь… Рябчика как ветром сдунет…
Рыбак неторопливо попил чаю, сладкого, хорошо упревшего, и, слегка утолив жажду, поведал мне о том, что болезнь эта у него прирожденная, что сам он из Ленинграда, здесь, на Урале, живет его сестра, и он каждый отпуск ездит к ней, да и не столько к ней, сколько подивиться на уральскую, такую могучую древнюю природу, осенями дивную и тихую. Нигде нет более такой осени. Но главное, страсть свою потешить — нет для него большей радости, чем харюзование, особенно осенями, когда хариус катится из мелких речек. Предупреждая мой вопрос — как же с такой болезнью один по тайге? — немного оживленный чаем, рыбак добродушно и все так же чуть виновато и доверительно улыбнулся:
— Ну, а что? Лучше умереть дома? В больничной палате? Нет-нет! Я уж надышусь, насмотрюсь, нарадуюсь за тот век, который мне отпущен. Пусть он недолгий век, но видел я красот, изведал радостей сколько!..
Что с ними, с этими чокнутыми природой, поделаешь? Сам такой! Пока мой новый знакомый говорил о рыбалке, об Урале, реки и леса которого он, к удивлению моему, знал куда как лучше меня, пять лет здесь прожившего, я напрягал память, пытаясь вспомнить кровоостанавливающие средства, ибо платок мой и поверху примотанный холщовый мешочек уже пробило изнутри репейно ощетиненным пятнышком, но ничего, кроме крапивы, не вспомнил.
Я сделал из бересты факелок, вылил чай до капли из котелка в кружку и спустился в распадок, где и нарвал лесной крапивки, вымочившись в дурнине почти до ворота. Пока бродил во тьме, рвал крапивку, вспомнил о змеевике — кажется, верное кровоостанавливающее средство, особенно корень. Еще бы зверобойчика хоть кустик сыскать — от всех бед и болезней трава, ну а подорожник-то всюду найдется.
Долго шарил я под завесой пихтача, возле покосов по-бабьи вольготно зеленой юбкой рассевшегося, отыскивая в невыбитых литовкой углах лечебную траву, повторяя, чтоб не забыть, начало деревенского наговора: «Горец, горец, почечуйный, перечный, птичий, змеиный или еще какой молодец, — покажись мне, откройся…»
Но отсияли, отцвели травки — осень все же, попробуй без цветов и примет отыскать траву, да еще в потемках — все жухлы, бледны. Однако в теньке среди оплывших морковников и мочалкой свитых трав я нашел все же былки бледно доцветающих стрелок змеевика и рядом его собрата — ветвистый перечный горец, для верности пожевал и ощутил с детства не забытую, почти щавельную кислинку.
За пихтачом, отоптанным колхозными коровами, на маленькой кулижке, возле утихшего муравейника сыскал и ветки зверобоя с отгоревшими восковыми цветочками. Подорожник рвал на ощупь возле речной тропы.
Я парил травки в котелке, остужал навар, делал кашицу из подорожника ножиком. Мой новый товарищ смотрел на меня и рассказывал про Ленинград, воспринимая как что-то должное мои хлопоты — верный признак того, что сам он много помогал людям.
— Война кончилась, — как о чем-то обыденном и привычном говорил рыбак. — Утихает горе. Люди, природа — все-все как бы вновь и новой, какой-то неведомой добротой открываются нам… Жить бы да жить…
Я промыл его руку теплым отваром, осторожно и в то же время содрогаясь от бессильного недоумения и внутри занявшегося холода, вытер капельку крови с брюшка пальца, залепил прокол величиной с иголочное ушко кашицей подорожника, завязал руку оторванным от нательной рубахи лоскутом и указал на котелок:
— Пейте! Как можно больше пейте — это должно помочь…
Он послушно пил теплый отвар, с вялой настойчивостью поел хлебца с маслом, потом разошелся в еде и прямо с кожуркой уплел пару моих, почти до хруста упекшихся в углях картошек. Я тем временем еще раз спустился к речке с котелком, вернулся с водой, и рыбак ублаженно молвил:
— Навязался вот.
— Ничего, ничего, высплюсь. Успею. Мои рябки от меня не уйдут! Рядом, бродяги! — кивнул я на распадок.
— А мои харюзы в реке. Странно, правда? Спят вот и не знают, что мы тут наготове…
— Да, да…
Я растряс сено пошире, подбил его от пихты в головах. Рыбак прилег лицом к костру, выставив завязанную руку на тепло, и быстро утих. Спал он младенчески тихо, не шевелясь, и я порой вскидывал голову, живой ли. Еще один встречный, еще одно удивление человеческой недолей, силой его, величием перед неотвратимой смертью.
Привычное еще с войны, с госпиталя, непроходящее чувство вины перед обреченными угнетало меня. Происходило это еще и от спокойствия человека, от его невысказанной боли и обиды на судьбу. Но общение с ним не давило. Обезоруживала его обыденная, прямодушная откровенность, в которой не было места истерике, зависти и ненависти к тем, кто живет и останется жить после него, — признак здоровой натуры, трезвого ума и незлого характера.
Я подживлял огонек, палкой сгребая уголья к краю кострища, чтобы грело рыбака спокойным теплом, и в поздний час, в студеное предутрие, сам уснул мгновенно и глубоко.
Проснулся и едва не ослеп от белизны: повсюду на лугах, на зародах, на зеленой отаве, вдоль берегов Усьвы, на ельниках и последних листьях осин и берез белел иней. Каждая хвоинка на пихте с той стороны, где недоставало тепло огня, была как бы обмакнута в серебряную краску. Внизу, в распадке, звонко и беззаботно пищал рябчик, у реки трещали дрозды и, отяжелев намокшим пером, коротко перелетали над землей, шарахались в ельниках, осыпая иней, — птица тянула на рябинники.
Я вскочил от огня, бойко горевшего сдвинутыми головешками, и не обнаружил рыбака. На сене лежал клетчатый листочек, вырванный из блокнота, и на нем было написано: «Спасибо, брат!» Я осмотрел листочек с обеих сторон — он был чист, не захватан кровью. «И слава Богу!» — сказал я себе, поскорее собираясь. Под пихтой, подальше от тепла, что-то серебрилось. Я наклонился: три отборных крупных хариуса чуть прикрыты сырым мхом и веткой пихты.
Под горой, ниже охвостки острова, заметно темнела фигура человека — он забродом стоял на струе и редко, плавно взмахивал удилищем — искусник, рыбачит на обманку!
Оставив завтрак на после, на ходу хлебнув из кружки теплого чая, я торопливо надел рюкзак и поспешил из ельников на опушку, к белолесью, вдоль которого уже пели, заливались задиристые петушки, и мама-рябчиха понапрасну серчала и сипела с земли, призывая неразумных молодцов к осторожности и благоразумию.
Утро, солнечное, бодрящее, белое, звенело примороженным листом, словно били леса в колокола, пробуждая к жизни все сущее на земле.
Две подружки в хлебах заблудились
Годы проходят, десятилетия, а все не идет из памяти женщина, встреченная мной на уральском лесоучастке, расположенном возле самой отметки: «Европа-Азия», что неподалеку от станции Теплая гора.
Прежде здесь был арестантский женский лагерь. Почему-то, скорей всего от застенчивости, самые мудрые и гуманные правители упрятывали лагеря в самую недоступную глухомань.
Я работал в газете, «вел лес», и, когда меня занесло в этот, среди лесов, на самом Уральском хребте затерявшийся поселок без названия, лагеря в нем уже не было, все ж остальное как было, так и осталось, даже часть «контингента» сохранилась, та, которой уходить и уезжать было некуда и не к кому.