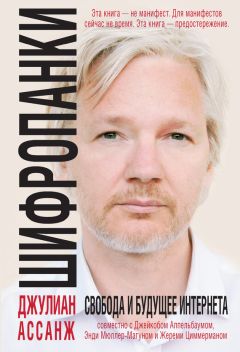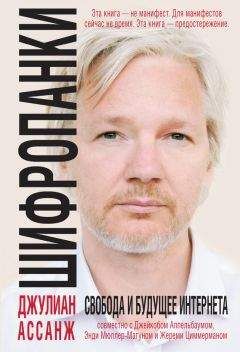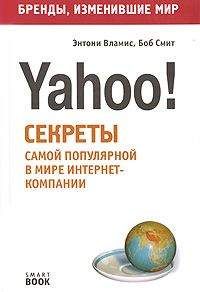Михаил Алексеев - Ивушка неплакучая
— Будя уж вам об этом, бабы. Не теребите своих ран — свежи они, не зажили.
Но Соловьевой уж вожжа под хвост попала:
— Удивляюсь я на тебя, Стеша. Скоко годов живешь без мужика — и ничего. Я б с ума сошла.
— Разные мы с тобой, Маша, — сказала Степанида и, обняв приблизив к себе обеих, вновь затянула — тихо и печально:
Девица, девица, красавица душа,
Что же ты, девица, невесела сидишь.
Али ты, красавица, тужишь о чем,
Али сердце поет по дружке милом?
Степанида спрашивала своим глухим, придавленным чем-то тяжелым голосом, а Феня и Мария отвечали — так же тихо и грустно:
Как же мне, девице, веселою-то быть?
Как же мне веселой быть и радошной?..
Что ж это у бабушки да выдумано,
У родимой матушки повыгадано?..
Знать, они, родимые, неправдою живут:
Меньшую сестру прежде замуж отдают!
Степанида, потеплев лицом, успокаивала:
Ивушка, ивушка, на воле расти,
Красавица девица, не плачь, не тужи!..
Не срубят ивушку под самый корешок,
Не разлюбит девицу миленький дружок!
Пропев это, примолкла, забеспокоилась:
— А не пойти ли нам, Мария, с тобою в клуб да не пригнать ли наших комсомолят домой? Долгонько что-то их нет.
— Куда они денутся. Придут, — сказала Феня, недовольная тем, что песня кончилась и надо собираться домой.
— Ишь ты как! — заметила Мария. — Бывало, не ждала, когда твой Филипп сам возвернется, бежала на гульбище и гнала его под свою крышу поскорее. Пойдем, Стеша, заодно вот и Фенюху проводим. Небось заждался ее там Белый-то, на стенку кидается…
— Ну и язычок у тебя, Маша! Ай завидки берут? — включившись в озорной тон подруги, спросила Феня.
— А то нет! Гляди, милая моя подруженька, как бы не отбила у тебя его. У меня это быстро…
— От тебя всего можно ожидать, — сказала Феня и, опасмурнев, быстро направилась к двери.
— Ну вот и пошутить уж нельзя! Нужон мне твой Авдей! Пущай Надёнка Скворцова с тобой воюет, а я, коль охота будет, отыщу для себя какого-нибудь завалящего в другом месте, — спокойно объявила Мария, взяв Угрюмову под руку и возвращая на прежнее место. — На мой век их хватит…
— Немного что-то их валяется на дороге, — вздохнула Степанида.
— Ничего, я найду, — уверила Мария.
— И когда ты только уймешь себя, Маша! — сказала Феня. — Сын уж вон какой, постыдилась бы…
— Что-то ты не очень совестилась своего Филиппа, когда ухватилась за Авдея! — мгновенно и зло отпарировала Соловьева. — Сразу увела его у этой разини Надёнки. Тоже мне праведница отыскалась!
Феня, покраснев, промолчала.
Умолкла, смутившись немного, и Мария, которая, правду сказать, наговаривала на себя явно лишку: не такая уж она непутевая и агрессивная относительно чужих мужиков, какой себя выставляла на словах. Не помнили и не примечали завидовцы в последние годы, чтобы Мария принимала в своем доме кого-нибудь из мужчин или пыталась соблазнить, заманить в любовные свои силки. Наговаривала же на себя, скорее, из врожденной дерзости, из желания замутить воду, растревожить, расковелить, взбудоражить счастливых своих односельчанок, вызвать у ннх волпу лютой ревности и хоть таким образом поторжествовать, возвыситься над ними и приглушить немного неутихающую, вечно саднящую боль в своем сердце. Этим только и можно объяснить неслыханную даже для нее выходку, которую позволила себе Мария Соловьева на одном недавнем и, прямо скажем, необычном товарищеском суде, проходившем в Завидове.
Судились две женщины, по виду — ровесппцы. Может, одна из них, та, что была подсудимой, выглядела чуть моложе и привлекательнее обличьем. Она обвинялась в том, что была захвачена истицей на месте преступления, за колхозной фермой с животноводом — мужем истицы. На все вопросы председательствующего (им был Тимофей Непряхин, по причине своей инвалидности получивший эту общественную нагрузку, каковая, как потом выяснилось, была далеко не легкой), — так вот на все Тишкины вопросы относительно того, признает ли подсудимая себя виновной, последняя, уставясь в пол клуба, упрямо твердила:
— Не было этого. Все это выдумки, наговоры.
«Пострадавшая», окидывая разгневанным взглядом помещение, битком набитое завидовцами (первые ряды занимали женщины, а позади, скрываясь за густым облаком табачного дыма, приютились мужички), ища и призывая сочувствующих, во всю мочь, как умеют только разъяренные деревенские бабы, возглашала:
— Не было? Выдумки? Да я ж тебя… Воп тетенька Катерина Ступкина своими глазами видела! Что бельмы-то от людей прячешь?! Подыми, подыми бесстыжие свои глаза! Покажи их честному народу!..
— Отвечай, подсудимая, — тихо и грустно, явно жалея несчастную, сказал Тишка.
Женщина услышала его, подняла глаза, и из них сейчас же хлынули ручьями слезы. Она не успела вымолвить и слова, как рядом с ней оказалась величавая в крайней и безумной ярости своей Мария Соловьева. Обращаясь к подсудимой, вздымая грудь, заговорила:
— Да что ты оправдываешься перед ними, Гав и?! Хорошо им при мужьях-то живых. А ты разве виноватая, что твово убили?! Оставьте ее в покое! Что вцепились? А уж ежели вам так хочется, судите нас всех, безмужних… — похабно-грешная усмешка кособоко прошлась по лицу ораторши. — Не упрячете и под семью замками своих мужей, из-под носа уведем. Так и знайте!
Басовитый мужской хохот грянул у задней стены клуба и громовым валом покатился на передние ряды, давя и заглушая бабий визг.
Мария же спокойно взяла подсудимую за руку и на глазах у невольно расступившейся толпы женщин, а также растерявшегося Тимофея Непряхина увела к выходу.
Сейчас, разговаривая с подругой, Федосья Леонтьевна вспомнила про этот случай, улыбнулась про себя, предложила совсем уж миролюбиво:
— Правда, бабы, пошли в клуб. И я с вами. Давно не была.
— Вот и хорошо! — обрадовалась Соловьева. — Поглядим на молодежь и свою молодость вспомним. Мы ить с тобой, Фенюха, вместе в комсомол-то вступали. Помнишь, поди?
— Еще бы! Помню, Машенька, все, как есть, помню! — взволнованно сказала Федосья Леонтьевна, ибо вспомнила не только день вступления в комсомол, но и тот час, ту минуту, когда ее взял под руку и увел из старенького нардома будущий испанский герой Филипп Иванович. Будто прозябнув, передернула плечами, заторопилась: — Ну пошли, пошли! Что же вы сидите?..
Не успели войти в клуб, как туда ласточкой влетела Катя Угрюмова, завертела головкой, запорхала глазами, наткнулась, наконец, на сидевших у стенки женщин, кинулась к старшей сестре:
— Да где же ты пропадала, нянь? Мы с дядей Авдеем все село обежали! Иди скорее домой!..
— Что, что случилось-то! — Феня схватилась за сердце. — Господи, да говори же ты скорее!
— Филипп приехал! — выпалила наконец Катя и, не дожидаясь сестры, вновь выпорхнула из клуба.
Феня хотела было побежать за нею, но ноги не слушались, — держась за сердце, рвавшееся из груди, медленно побрела домой. Счастье, коль оно велико и нагрянуло неожиданно, как и несчастье, способно сразить человека. Феня вошла в свою избу, ярко светившуюся всеми окнами, не прежде чем отдышалась, прислонившись правым боком к завалинке.
25
, Вошла и не увидела никого, кроме своего сына, хотя за столом, накрытым, наверное, пришедшей сюда Аграфеной Ивановной, уже сидел добрый десяток других людей. Тут были и отец с матерью, и брат Павел с женой, и Авдей, и Тишка с Пишкою (не постеснялся прийти и этот, последний), и Апрель с Максимом Паклёнико-вым, и, конечно же, Архип Архипович Колымага, и, что должно было бы броситься хозяйке в глаза если не в первую, то, во всяком уж случае, во вторую очередь, Сергей Ветлугин. Но так, знать, устроены глаза матери, чтобы в такую минуту ничего и никого не видеть, окромя своего детища. Высоченный, подпиравший потолок своей головой, он вышел ей навстречу, обнял, приподнял с пола на уровень своего лица, поцеловал в мокрые щеки. Она, по-прежнему никого не замечая, разглядывая влажными, сверкающими глазами только его одного, глотая слезы, вымолвила наконец:
— Что же ты, сынок… что же не предупредил? Кто ж тебя привез-то? — А руки ее непроизвольно ощупывалп золотые, с зеленой оторочкой погоны на прямых и широких его плечах.
— А зачем беспокоить? — отвечал он так же сбивчиво. — Приехал я на райкомовской машине. Товарищ Кустовец дал. Да и ехал я один только до Саратова, а оттуда вот с ним… Да глянь-ка туда, мам! Неужели не видишь, это же дядя Сережа!
Федосья Леонтьевна замигала ресницами, смаргивая остаток слез, и теперь только прояснившимися и отрезвевшими вдруг глазами увидала всех сидевших и молча наблюдавших встречу матери со своим единственным сыном, не решаясь даже малейшим шорохом, неловким движением нарушить святость этого мгновения.