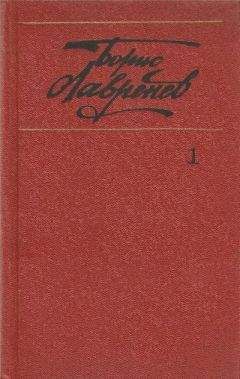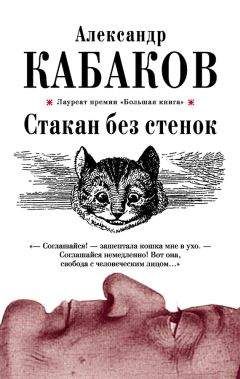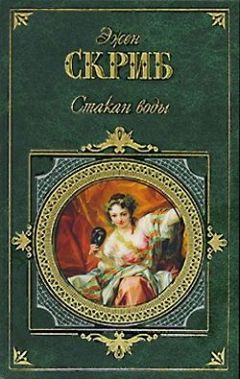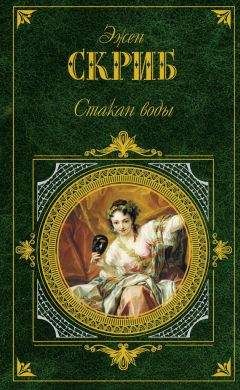Борис Лавренёв - Собрание сочинений. т.2. Повести и рассказы
— Я знаю, Митя… Извини. Это от неожиданности. Сразу после сна. Я сейчас все сделаю.
Она вскочила и мелкими, но четкими шажками перешла комнату и, нахмурив бровки, открыла шкаф.
— Принеси чемодан из прихожей, — полуобернувшись, уже по-женски деловито, сказала она Мочалову.
Он пошел за чемоданом, растроганный и взволнованный.
То, что она назвала его Митей, а не Мочаловым или Мочалкой, как всегда, показывало серьезность ее отношения к случившемуся. Шутливая ласковость обычных названий показалась ей неуместной. Как в нем самом, так и в Кате, после мгновенного испуга и волнения, взяло верх над слабым, над женским и личным, то чувство внутренней дисциплины, которое так свойственно было и Мочалову, и ей, и всей молодежи, выросшей вместе с ними.
Пусть трудно подавить в себе личное чувство, внезапную горечь отрыва от только что обретенного тепла, ласковости, предельной человеческой близости, но нужно его подавить, когда человека требует большое, перекрывающее его собственные переживания, дело. Мочалов понимал, что волнение Кати не угасло, что оно не может угаснуть, что она потрясена, но это уменье справиться с темным и непокорным голосом сердца облегчало ему самому тяжесть разлучных минут и рождало в нем еще большую благодарность и близость к Кате.
Он сидел и курил, смотря, как Катя, на корточках, ловко и скоро наполняла пустое брюхо чемодана нужными вещами. Они были покорны ее рукам и укладывались каждая на свое место.
Мочалов удивлялся. Он никогда не мог овладеть загадочным искусством находить место вещам. Поездка всегда была для него мучением, а укладка вещей пыткой. Все эти штуки оживали, злобно упрямились, вырывались из рук, пока в неистовой злости, комкая все и танцуя на чемодане, Мочалов не побеждал их дикое упрямство. Катя обращалась с вещами, как опытный дрессировщик со зверьем. Вещи рычали, но подчинялись.
— Книжки тебе положить, Мочалов? — спросила Катя. — Может, скучно будет в дороге, захочешь почитать?
— Некогда скучать будет, — ответил Мочалов, — возьму только авиационный словарь и, пожалуй…
Он встал и подошел к книжной полке, перебегая взглядом по корешкам. Здесь, прижавшись друг к другу, стояли его лучшие друзья. С того дня, как он прочел «Гуттаперчевого мальчика», книги навсегда стали для него необходимыми, как воздух, и он приобретал их сколько мог.
Пальцы Мочалова перетрогали последовательно несколько корешков книг. Он выдвигал их наполовину и задвигал обратно, ища такую книгу, которая отвечала бы его настроению, его мыслям, его чувству.
И он нашел ее. Он вынул Диккенса, «Повесть о двух городах». Эта вещь некогда дала ему высокое опьянение трех бессонных ночей. И она была связана с Катей. Когда Мочалов впервые увидел Катю на шефском вечере в техникуме, он даже зажмурился — так показалась она ему схожей с обликом дочери несчастного доктора, обликом, который он сам выдумал.
Он подошел к Кате и бросил поверх уложенных вещей словарь и Диккенса. Катя захлопнула чемодан.
— Все!
Она поднялась и зябко повела плечами. Видимо, от волнения и оттого, что она была в одной рубашке, ей стало холодно.
Мочалов смотрел на нее, белую, легкую. В жизнь его она вошла как лучший подарок. В беспризорном прошлом женщина была для него источником темного страха. Первое ощущение женщины осталось в его памяти отвратительным пятном: в трубах московской канализации пьяная, растерзанная, догнивающая маруха ночью навалилась на него, двенадцатилетнего. Он едва вырвался, всадив изо всей силы крепкие волчьи зубы в ее вялый живот. После этого он с нервной дрожью убегал от каждой женщины, пытавшейся просто от жалости приласкать его. Позже это прошло. Во время учебы в летной школе, на юге, у него были связи, как и у других курсантов. Связи эти, чаще всего с курортницами, шалевшими от моря и солнца, были легки и бесследны. Мочалов относился к ним как к пустой забаве. Они проходили, как утренняя дымка над заливом, и даже лиц этих женщин, их голосов и жестов он никогда не помнил.
Катя пришла к нему иначе. И он впервые почувствовал то странное томление, над которым потешался он сам и его сверстники, как над пережитком разгромленных и уничтоженных чувств. С прежними женщинами он мало разговаривал. С Катей он мог говорить часами, ночами напролет, не прикасаясь к ней, не чувствуя усталости, все крепче связываясь общностью мыслей, желаний, порывов.
И когда он весь отдался этой непривычной, захватившей его близости, он бесстрашно стал выговаривать еретическое слово «любовь».
Катя была любовь. И этого нечего было стыдиться.
— Тебе надо хоть немного поспать, Мочалов, — сказала Катя, сладко потянувшись, и прыгнула в постель, натягивая одеяло.
— Нет смысла. Только раскисну.
Он присел на край ее постели. Катя завладела его рукой, перебирая пальцы.
— Ох, как много хочется сказать тебе, Мочалов. И не знаю что. Мысли скачут. Как ты думаешь, можно сейчас говорить только о своем, о личном? У наших писателей сознательные муж и жена перед разлукой обязательно говорят о смене руководства профкома или преимуществах многополья. Но мне не хочется говорить об этом, и, по-моему, они глупцы и лжецы, которые никогда не знали настоящей близости. Ты знаешь, что мне хочется сказать тебе, Мочалов, — она посмотрела на него ясными глазами, — что я жалею об одном. О том, что ты уходишь неожиданно, неизвестно куда и на сколько, а я остаюсь совсем одна. А мне хотелось бы сразу ждать двоих, тебя и сына… Видишь, какая я жадная. Ты не думай, что я не буду скучать о тебе, Мочалов. Я сейчас держусь, чтоб тебе было легче. Но когда тебя не будет, я буду много плакать, и мне вовсе не стыдно. Это тоже ложь, Мочалов, что комсомолке нельзя плакать. Ведь ты мой, Мочалов?
Мочалов осторожно сжал Катины пальцы. Он не слишком вникал в смысл ее слов, ему был приятен смятенный Катин лепет, дрожание ее руки. Катя клонилась к нему, и голос ее становился все тише.
— И зачем я стану говорить тебе какие-то торжественные слова, когда я знаю, что ты умней и опытней меня, Мочалов. Я знаю, что ты ведешь меня, что я уважаю твое дело, что я вместе с тобой всей кровью предана нашему общему делу. Я даже рада за тебя… Но все-таки мне страшно, если… если ты не вернешься. Я не хочу этого. Береги себя, Мочалов, милый!
Тоненький локоток ее трепетал у самого сердца Мочалова. Он обнял ее, потянулся и выключил свет.
Оставались последние, краткие минуты перед разлукой.
3Бронзовая пепельница-дракон все время сползала на край стола. Старый японский стимер «Садао-Мару» валяло океанской волной, и Мочалову поминутно приходилось отодвигать пепельницу к середине. Это немного раздражало и отвлекало внимание.
Он сидел на койке каюты рядом с Блицем. Штурманы расселись в креслах, второй пилот Марков лежал на верхней койке.
Мочалов читал вслух названия частей самолета по авиационному словарю, летчики записывали, повторяя вслух.
— На сегодня хватит! — Мочалов захлопнул словарь и прикрыл им сползающую пепельницу.
— Считаю нужным предупредить, — продолжал он, обводя глазами лица товарищей, — через три часа мы придем в Хакодате. Надеюсь, все понимают, что из этого следует? Прошу всех быть чрезвычайно осторожными в каждом шаге и слове… Особенно, товарищи, насчет этого, — Мочалов усмехнулся и щелкнул себя по кадыку.
Летчики переглянулись. Саженко покраснел, закашлялся и заскреб ногтем пятнышко на брюках — знал за собой грех.
— Новые штаны не продери, — с насмешливой заботливостью обронил Мочалов, — других не выдадут. А насчет горячительного — потерпи до дома. Сообщаю как начальник, что малейшее злоупотребление напитками поведет к отстранению от полета, с высылкой назад и отдачей под суд.
Он придал голосу возможную сухость и жесткость.
— Да чего ты на меня уставился? — жалобно сказал Саженко. — Другие тоже пьют.
Пьют, да меру знают, а ты иной раз перехлестываешь.
— Вот честное слово, в рот не возьму, — вздохнул Саженко.
— Этого не требую. Возможно, придется быть на каких-нибудь банкетах — за границей это любят. От тоста не откажешься, но держи себя на поводу. Помните, что и кого мы будем представлять. Америка нас знает. Там были Громов, Леваневский, Слепнев. После них нам мордой в грязь ударить — смерть.
Летчики молчали, но в спокойных их чертах Мочалов прочел те же мысли, которые владели им в эту минуту.
С каждой минутой они все больше отделялись от родины и утрачивали непосредственную, живую связь с ней. Они становились крошечным островком в настороженно-враждебном мире. Тем крепче должна становиться внутренняя, незримая спайка с оставленным на родном берегу, за зеленой дорожкой, прорезаемой в море винтами «Садао-Мару». Эта спайка должна поддерживать их всех и каждого в отдельности в трудные минуты.
А трудные минуты скоро наступят. Все ближе чужой берег, берег притаившихся островов, с которых ежеминутно можно ждать удара.