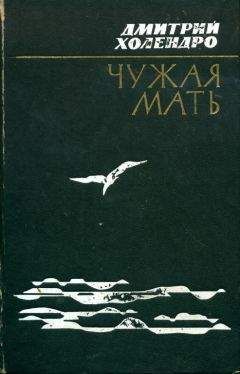Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]
В кузне звучно бахал молот, ему подтенькивал шустрый, прыгучий молоток. Кузнецы работали и не заметили меня. Дон-дон-дон… Тень-тень-тень… Это звучало музыкой, птичьими голосами простора полей и простора реки….
Я греб, поднимая весла и роняя с них ручьи и капли. Они повисали между веслами и водой, и загорались радуги, весь мир теперь смотрелся сквозь них. Все было в радугах. Зеленые вершины рослых ветел… Цапля, которая шагала вдоль берега по воде, ломая гибкие ноги в коленях и зябко поджимая их, как будто вода была очень холодная… Тонкие пики камышин и жирные блины кувшинок…
Я не сразу заметил, что из-за леса к солнцу ползла непомерная, в полнеба, туча. Словно из засады… Ее вдруг рассекло молнией, и она обронила гром, раскатившийся эхом. Страшно треснуло и громыхнуло еще раз…
Я не знал, что Сакмара такая коварная река. Это мне потом дед рассказывал:
— Летом, по ясному небу, откуда ни возьмись вдруг подползет тучища, разлопается и захлещет градом. Изо всех прорех! А ледышки-то — с кулак! Озвереет Сакмара — и ну валять лодки. Лучше бросай весла, пусть тянет, куда тянет, не спорь, не то перевернет!
Грр! Бух! Бах! Там, за тучей, все громыхало. Молнии вонзались в реку. Я махал веслами, растирая ладони в кровь, но лодка уже не слушалась, ее вертело на месте.
Зачем я поплыл? Ведь еще там, на шатких мостках, я разумно боялся.
Трах! Бах!
Рухнул дождь. Густые струи сомкнулись в стену, за которой сразу скрылись лес, поля, берега. Лодка стала быстро наполняться водой, оттого что, качаясь, зачерпывала ее через край. Вода уже добралась до моих колен. Река кипела. Белые гребни, вздутые ветром, катились ко мне. Булькали вокруг пузыри, проколотые струями ливня.
Высокий борт неожиданно вырос над моей головой, я уцепился за него, вода окатила меня, стараясь оторвать от лодки, но я не поддался, нет! Стало темней и тише. Лодка перевернулась, и я понял, что нахожусь под ней, как в темнице. Дождь густо барабанил по днищу, над моей головой. Я кричал и плакал, но теперь уж меня вовсе не мог услышать никто.
Становилось все холоднее. Меня несло. Я давно перестал плакать и только дрожал и не сразу разобрал, что в днище барабанит чей-то кулак.
— Эй! Ты здеся?
Это был Васькин голос.
И тогда в ответ я снова заплакал с постыдным визгом и услышал крик:
— Здеся-а! Живо-о-ой!
Позже я узнал, что с началом грозы, с первым ударом грома, Васька стал буянить в сарае, биться в дверь, пока мать не выпустила. А там уже сам кузнец Егорушкин вместе с Васькой на соседской лодке ринулись за мной вдогонку.
На постели деда меня отпаивали чаем. А голос кузнеца оглушительно, как гром, лез в уши:
— Дайте ему чего покрепче…
Я глотнул из чашки, поднесенной к моим губам, закряхтел, закашлялся и открыл глаза.
На следующий день солнце опять сверкало в Сакмаре и небо было чистое. У реки гнулись с удочками деды и мальцы в холщовых штанцах. Крохотные девочки водили на уличной лужайке хоровод, распевая:
Кабы эфта жена
У меня была,
Я бы ее, я бы ее
На колясочке возил!
А студеной зимой
В новых писаных санях,
На ямских лошадях!
А я сидел на колоде для рубки дров в Васькином дворе, пригорюнившись. Васька отбывал наказание за лодку, стоя на коленях, под которые отец подсыпал ему гороха. Когда его мать уходила со двора, я подкрадывался к открытому окну избы и окликал:
— Васька!
А он мигал мне из угла улыбающимся рыжим глазом.
ВоронокТак звали коня. Он был черный, как галка. Первый конь, на которого я сел, без седла, и поскакал, прижавшись колотящимся сердцем к конской шее и ухватившись за гриву.
На Воронке мы с дедом косили в поле пшеницу.
Мама не хотела меня пускать, она боялась всего — солнца, косилки, коня. Боялась, что конь, отмахиваясь жестким хвостом от цепких и кусачих мух-слепней, стегнет меня по глазам. А хвост у Воронка и правда был жестким, волосы как из тончайшей проволоки. Это из них, между прочим, сплетали короткую косичку и привязывали к концу пастушечьего бича. Она, косичка, и щелкала — стреляла, когда пастух, вытягивая многометровый бич вслед за медлительными коровами, подгонял их… Конь мог и лягнуть, чего доброго. Поднеся сапоги, извлеченные из сундука, как из дедушкиного детства, как будто оно хранилось там до моих дней, мама погладила меня по ноге, не сомневаясь, что я хоть и ненароком, а непременно влезу этой ногой в неостанавливающиеся зубья косилки.
А не влезу, так утружусь до смерти.
— Э, Клавушка! — говорил дед, качая головой так, что черная, как шерстка у Воронка, борода ерзала по груди. — Мужику десятый исходит, а он еще не работал! Переросток комолый!
В деревне и восемь лет — возраст, в эту пору мужчина — уже работник, человек.
Мать все дни, пока мы собирались в поле, бродила за дедом по двору и по огороду и уговаривала не брать ребенка, а дед опять качал головой, говорил:
— Зря гуркотишь! — И натягивал на уши зимнюю шапку.
Среди знойного лета дед нередко ходил в шапке с опущенными ушами, чтобы не слышать лишних слов. Эта шапка всегда была у него наготове.
Тетя Аня выговаривала ему, что он опоздал растопить самовар, пока она парилась в домашней бане, или одолжил два, а то и три рубля (целковых) тому, кто еще не вернул и первого долга, взятого по весне. Дед натягивал шапку и качал головой: как же не дать, глупая, ведь сейчас страда, люди хлеб добывают на жизнь!
Дед был небогатым, но добрым. А рубли у него водились, потому что он не пил. Тетя Аня ворчала, а он приносил на стол кипящий самовар, поднимал меховое ухо шапки.
— Еще гуркотишь? Смотри — запью!
Тетя Аня умолкала, сжимая в морщинистый комочек губы. Безмолвно утихал прожитый день, в вечерней тишине избы все усаживались по своим углам со своей работой.
Тетя Аня ставила на припечек тарелку для веретена, садилась сбоку и пускала его безостановочно кружиться и жужжать. Из пучка расчесанной овечьей шерсти, зажатой в ее приподнятой руке, веретено вытягивало нитку и, свивая, наматывало на себя. Веретено кружилось быстро, а распухало постепенно и становилось похожим на брюкву.
Мама устраивалась неподалеку за прялкой. Наклонившись над ее рамой, она незаметно для себя запевала. Я и не подозревал, что мама умеет петь такие красивые песни и прясть такие платки!
Дед чинил старые сапоги и рассказывал нам сказки про Кащея Бессмертного, потешаясь над ним без всякого уважения к его бессмертию и богатству. Перед тем как ребячливо расхохотаться, дед выплевывал гвозди на ладонь, а потом опять возвращал их в рот.
Так тянулось до того дня, когда дедушка, заплатив какому-то черноотрожскому богатею (тогда еще не было колхозов и комбайнов) за нанятую косилку, велел мне:
— Обувайся.
И я увидел поле. Желтое от высокой и густой пшеницы. Она вызрела, колосья пригнули стебли, все вокруг тяжело отливало золотом. Нет, солнцем. Пшеница была насквозь солнечной, от ее блеска резало глаза.
Но, может быть, глаза резало от сверканья ножей косилки, похожих на острозубые пилы? Весь день они мелькали у моих ног и валили, валили, валили пшеницу… Длинные полосы срезанной пшеницы ложились за косилкой. Не было вокруг другого цвета — ни в небе, ни на земле. Все вокруг было цвета солнца.
Зубья ножей бегали вправо-влево, влево-право, хрустели, перегрызая стебли, отбрасывали солнце в глаза. Слепили и усыпляли. Я клонил голову, клонился сам над этими слепящими зубьями и вздрагивал на косилочном сиденье, выпрямлялся и подгонял Воронка.
Дед дал мне кнут на длинной палке, но я почему-то быстро забыл о нем, кинув на косилку, рядом со своими ногами, обутыми в пропыленные сапоги. Обходился вожжами, похлопывая Воронка по бокам, чтобы помнил о хозяйской руке. Воронок старался без лукавства. Он был молодым и резвым конем.
Иногда я поднимал глаза к небу. Оттуда, сверху, Воронок, наверно, казался мухой, кружившейся в солнечном пятнышке. Но ведь вокруг нашего маленького поля были другие поля, разделенные межами и объединенные солнцем. Я радовался чему-то простому, наверно общности со всем этим миром, с солнцем.
Чем больше выкашивались наше и соседние поля, тем заметней открывались ремни межей, опоясывающих каждое поле. Через всю землю петлями вились межи, нарезая ее на лоскуты, и на всех межах ярко голубели васильки.
Отдавая хлеб, земля заголубела, как косынка, прошитая цветами.
— Шабаш! — командовал под вечер дед, и я останавливал Воронка и слезал.
Я понял, для чего меня обули в сапоги. Не только для защиты от железного пола косилки, раскалявшегося на солнце, и острозубых ножей. Остатки пшеничных стеблей торчали из земли, как гвозди, выкошенный участок щетинился острой стерней.
В сапогах я смело шагал к меже, а по ней — к ближнему перелеску, а дед уже разжигал костер, подбрасывая в него, для шустрости, соломы. От сухой соломы огонь становился трескучим и рос в открытое небо. Дед втыкал во вчерашние дыры по бокам костра сучковатые рогульки и укладывал на них прокопченную палку, на которой висел такой же черный от копоти котелок. До темноты в нем начинала булькать пшенная каша.
![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/uploads/posts/books/240148/240148.jpg)