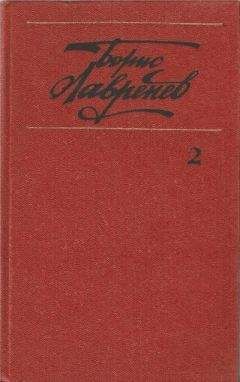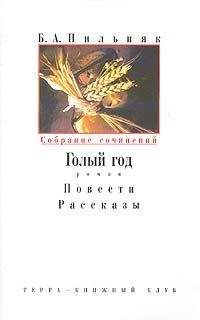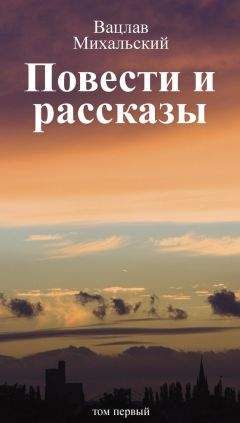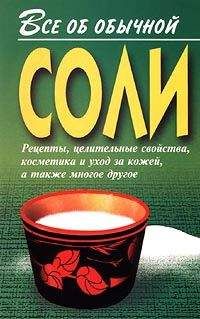Борис Лавренёв - Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы
Адмиральша, сморщив лоб, соображает взятку.
— Вот видите. Я очень рада, что вы меня понимаете, Ефим Григорьевич. А то еще перед самой революцией было необъяснимое явление в Царском Селе. Прилетели в феврале совершенно необыкновенные птицы в дворцовый парк. Никто не мог узнать, какой породы: серые, громадные. Даже профессора-орнитолога вызывали, и он руками развел, — сказал, что в первый раз таких видит. Летали они над дворцом, кричали почти человечьими голосами, а потом с размаху падали наземь, рыли снег когтями и рвали себе перья на груди. И невозможно было их подстрелить.
— Ишь ты! — удивляется Патрикеев. — Да кто стрелял-то?
— Царские егеря.
— Ну, дело немудреное, — кривится Патрикеев. — Энти самые егеря с безделья всегда опимшись ходили, руки тряслись, и в зенках туманило. Нашего бы Михея Иваныча послать, был у нас в Сурове такой старикашка охотник; тот бы ежели вдарил, то всех птиц зараз бы поклал.
— Да, такие странные птицы… И ровно двадцать три штуки, по числу лет царствования государя.
Но чаще Анна Сергеевна рассказывает Патрикееву о выходах во дворце, о торжественных балах, подробно и тщательно описывая все мелочи священного ритуала двора.
Однажды достала Анна Сергеевна из шкапчика шкатулку птичьего глаза, раскрыла, показала Патрикееву парчовые туфельки-наперстки.
Патрикеев осторожно подержал туфельку в деревянных пальцах.
— Хы… Штучка! Поди целковых двадцать плачено. Только надсмешка это, а не обувка. Раз наденешь — и тьфу.
Адмиральша прижала другую туфельку к груди. Сказала тихо:
— В этих туфельках, Ефим Григорьевич, я танцевала на балу в Зимнем, когда его величество был еще наследником. И он подошел ко мне и сказал: «Вы прекрасны, как заря, мадемуазель». И он пригласил меня на вальс, Ефим Григорьевич, а после вальса он пожал мне руку и сказал, что он без ума от меня. Я храню эти туфельки, чтобы мне их надели в гробу.
Патрикеев посмотрел на часы. Стрелка переползла за полночь.
— Однако пора, — потянувшись, обронил он. — А насчет этого скажу, что напрасно вы, Анна Сергеевна, себе сердце терзаете, что он из-за вас ума решился. Он о детства еще тронутый ходил, без ума, значит, — так ученый историк товарищ Щеголев на лекции доказывал.
Адмиральша отерла повлажневшие, на мгновение озаренные юностью глаза и молча убрала туфельки.
6В третье посещение Бориса Павловича Леля и он поняли, что любовь неизбежна и прятаться от нее глупо и смешно. И Леля первая сказала об этом Борису Павловичу.
— Я — нехорошая. Я всем, всем обязана Генриху: он спас меня от голода, от тротуара. Я обязана любить его, но ты же видишь, что я не могу, — сказала она Борису Павловичу, терзая пальцами край одеяла. — Мне немного ведь осталось жить, и я хочу любить в последние минуты. Ведь у меня ничего нет, кроме моего мира в стеклышке… и кроме тебя.
Борис Павлович стоял у печки и грелся, прислонясь к ней спиной и заложив руки за спину. Он смотрел в угол комнаты, мимо Лели.
Леля жалобно всплеснула руками.
— Что же ты молчишь? Мне страшно. Скажи что-нибудь! И потом, мы же не виноваты перед Генрихом, мы не делаем ничего плохого. Мы даже не целуемся. Меня ведь нельзя целовать. Мы любим друг друга, как дети. Мы соприкасаемся только душами.
Борис Павлович качнулся и сказал:
— Может быть, это и есть самая страшная измена. Пока женщина отнимает у мужа только тело, до тех пор она еще не изменила ему. Если она отнимет у него свою душу, это — конец.
Леля заплакала.
— Что же нам делать? Ну, что?
Борис Павлович пожал плечами.
Что делать, когда любишь? Разве не спрашивают об этом женщины у любимых с того времени, как появились слова, и разве отвечают любимые иначе как пожатием плеч, ибо нельзя выразить ответа словами?
Но все же, за пожатием плеч, Борис Павлович ответил:
— Что? Ничего. Скоро весна. Февраль, март, апрель. Я налягу на работу, попрошу у директора сверхурочные, вообще как-нибудь наскребу денег, и мы уедем в апреле на Кавказ. В Красную Поляну, в Новый Афон, куда-нибудь. Ты вдохнешь горного воздуха и станешь здоровенькой, перестанешь кашлять.
— И мы будем тогда любить друг друга по-настоящему? — спросила, улыбаясь сквозь слезы, Леля Пекельман.
— Будем.
— Боже, как чудесно! Иди, поцелуй меня вот здесь. Здесь можно.
Леля отвернула халатик над беспомощно детской, цыплячьей ключицей, возле которой легкими толчками пульсировала плечевая артерия, и притянула Бориса Павловича за борт пиджака. Он поцеловал выступающую косточку нежно и робко, как в детстве целовал бантик из косы знакомой гимназистки, подарившей ему этот голубенький символ симпатии на балу морского корпуса после третьего вальса.
Горячее плечо Лели пахло одеколоном «Саида», парным молоком и еще чем-то неуловимо трогательным и родным.
— Милая, — сказал Борис Павлович, — милая Лелечка!
Леля запахнула халатик и погладила Бориса Павловича по небритой щеке.
— Сядь. Расскажи мне что-нибудь хорошее-хорошее. Расскажи мне о своих плаваниях. Я люблю, когда ты рассказываешь. Ты так много видел. Очень страшно плавать в океане? Я никогда не ездила по морю, кроме Петергофа. Я смешная? Да?
Борис Павлович засмеялся.
— Отчего смешная? Ты — милая, ты — плюшевый игрушечный зайчик. Зачем же тебе плавать в пустом океане, когда тебе нужно бегать по полям и грызть колосья? Вот выздоровеешь — и будешь.
Он придвинул кресло и сел в его мягкую кожаную раковину. Леля слушала его рассказ, грызя шоколадку. Вскоре остановила его:
— А на Яве женщины умирают от чахотки?
— Не знаю, — недоуменно ответил Борис Павлович, — не знаю. Наверное, нет. Очень мягкий климат, тепло, морской воздух. Чахотки не должно быть.
— Счастливые! — прошептала Леля и опять схватила Бориса Павловича за борт пиджака. Непомерно огромные глаза воткнулись в Бориса Павловича, как гвозди. — А Генрих? Что же мы скажем Генриху? Как мы уедем? Генрих не вынесет. Меня не будет… Ты пойми, что это значит для Генриха. Нет, нет, я не могу смотреть, когда он заплачет.
Борис Павлович помолчал, — помолчав, ответил серьезно:
— Генриху придется не говорить. Мы уедем сразу, возьмем билеты, приготовим все и уедем, когда Генриха не будет. Ему оставим письмо. Иначе нельзя. Сказать ему все — будет слишком трудно для нас.
Стенная кукушка прокуковала десять, и за дверью раздались шаркающие, усталые шаги Генриха. Он вошел, как всегда серый, разбитый и осунувшийся. Борис Павлович неловко встал, и эту неловкость движения заметил Генрих. Он молча склонил гладко причесанную голову, Борис Павлович тоже молча поклонился.
Минута нависла над тремя, тяжелая, готовая оборваться и раздавить их, — и тогда Леля, спасаясь от обвала, от гибели сейчас, в эту минуту, трудно и горячо покраснев, сказала неестественно весело:
— Генрих, миленький, здравствуй! Мы так заболтались с Борисом Павловичем, что даже времени не замечаем. Как я рада, что ты пришел.
Генрих так же молча поцеловал Лелю в тоненькую линию пробора на темени. Повернувшись к Борису Павловичу, сказал мягко и грустно:
— О, я не знаю, как мне благодарить Бориса Павловича за твое развлекание.
И уже обращаясь непосредственно к Воздвиженскому?
— Лела так скучно, а я ничего не могу сделать. Мне надо зарабатывать деньги, чтобы лечить Лела, а когда я дома — я такой усталый и скучный, что не могу ее развлекать. Лела совсем не нужно видеть скучных людей.
Борис Павлович быстро взглянул на Генриха Пекельмана: в последних словах ему почудилась покорная и знающая ирония. Но усталые складки морщин у Генриха были спокойно опущены и взгляд ясен.
Борису Павловичу стало мучительно стыдно.
— Я пойду, — сказал он нарочито шутливо, — я ведь при Ольге Алексеевне как в старые времена сказочник и рассказываю небылицы, пока не придет хозяин.
Генрих Пекельман проводил Воздвиженского через свою комнату до коридора и, закрыв дверь, постоял около нее в раздумье. Прямая морщинка у носа сломалась и задрожала. Он повернулся и вошел к Леле.
— Лела, ты отдыхай, а я буду работать.
Леля взглянула и увидела в вишневых зрачках Генриха знание. Ей стало страшно, она жалобно спросила:
— Ты не хочешь посидеть со мной, Генрих?
Генрих быстро отвернулся.
— Мне надо работать, Лела. Мне надо отправлять тебя в санаторий, — и шатающейся, вялой походкой вышел из Лелиной комнаты.
7День двадцать второго февраля упал на квартиру адмиральши Ентальцевой, как рушится во время пожара крыша: внезапно и страшно.
Когда веселыми змеящимися лентами пламя обвивает стены, выбрасывается сине-оранжевыми фейерверками из потерявших глянец стекла оконных глазниц, — крыша высится черная, тяжелая, крупная, и кажется, что ее одну не трогает огонь.