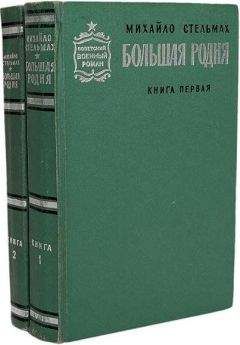Михаил Стельмах - Четыре брода
— Ой, кто это?
— От Зиновия Сагайдака.
— Правда, от Сагайдака?
— Ну конечно.
Вот заскрипели двери, стрельнула деревянная задвижка на дверях сеней, и на пороге встала немолодая женщина, из-под ее платка выбивался вечный снег. Она пристально посмотрела на близнецов, на тачанку и, будто давно знакомым, сказала:
— Заходите в хату, а я у коней постою.
Близнецы на ощупь нашли щеколду, открыли двери и, пораженные, остановились у косяка: к ним то ли из сна, то ли из сказки, оберегая подсвеченной рукой шаткий лепесток огонька, шла не девушка, а сама краса. Как она глянула на них, как повела испуганными ресницами, как заиграли ямочки на смуглых щеках! А они, олухи, еще не хотели ехать сюда! Близнецы переглянулись и, растеряв все слова, снова вперили глаза в молодую хозяйку, которая босиком идет к ним и идти опасается.
— Здравствуйте вам, — вполголоса поздоровалась она, вскинула на хлопцев доверчивые глаза, остановилась, оберегая уже не лепесток огня, а разрез сорочки. — Так вы от Зиновия Васильевича? Ему что-то нужно?
— Наш командир просит, чтобы вы приехали в леса и осмотрели его рану, — насилу выдавил Роман.
— Зиновий Васильевич ранен?! — вскрикнула Ольга. — И тяжело?
— Наверное.
— А куда?
— В руку.
— Так я сейчас оденусь.
Ольга поставила каганчик на шесток, а сама, засуетившись, бросилась в каморку, там оделась-обулась и быстро вернулась в хату. А братья следили за каждым ее движением и изредка переглядывались между собой да покачивали чубатыми головами. Наконец Ольга вынула из сундука две сумки с медикаментами и сказала:
— Теперь можно ехать. — Взглядом прощания она окинула свое жилище и первой вышла из него.
— Судьба! — вздохнул Роман.
— Судьба! — согласился Василь.
Возле тачанки мать простилась с дочкой, всхлипнула и попросила близнецов:
— Вы ж смотрите, дети, за ней, ведь она у меня одна-единственная, — и перекрестила их, и коней, и тачанку, и даже пулемет.
Близнецы наклонились к матери, один поцеловал ее в одну щеку, другой в другую, вскочили на тачанку, на которой уже сидела поникшая Ольга.
— Прощайте, мама!
Тачанка потянула за собой материнский вопль я начала наматывать на колеса раздавленную росу, увлажненную пыль и лунную грусть.
За всю дорогу лишь несколькими словами перемолвились близнецы с Ольгой, веря и не веря, что они везут ее в леса. А слово «судьба» звучало и звучало в душе и Романа, и Василя. Это ж надо вот так неожиданно!..
На рассвете утомленные кони подъехали к командирской землянке, возле которой, сгорбившись, сидел старый Чигирин. Недоброе предчувствие не давало ему спать, а в глазах стояли те зловещие пятна, которые видел он на руке Сагайдака. Поддерживая Ольгу, Чигирин осторожно спустился с нею в землянку, где возле стола уже сидел осунувшийся Сагайдак. Увидев Ольгу, он поднялся, радостно улыбнулся.
— Спасибо, доченька, что не побоялась ехать сюда.
— Я же сама набивалась к вам, — с тревогой взглянула она на командира. — Как ваша рука?
— Да не очень, чтобы очень.
Ольга сдержала вздох и стала раскладывать на столе свои медицинские принадлежности. Затем тщательно вымыла руки, протерла хлорамином, спиртом и осторожно стала разматывать бинты на руке Сагайдака. Вот они упали на стол, оголив рану и зловещие красно-синие пятна. Глянул на них Сагайдак и поднял глаза на Ольгу — та, кусая губы, ответила на немой вопрос:
— Гангрена. Надо немедленно ампутировать руку. Немедленно! — И к Чигирину: — Как же привезти сюда хирурга?
— Нет у нас, доченька, хирурга, и не знаем, где взять. Придется тебе самой стать хирургом.
— У меня же нет никакого инструмента, — застонала Ольга.
И тогда Сагайдак положил здоровую руку на плечо Ольги:
— Крепись и, если нет другого спасения, режь руку.
— Чем же, Зиновий Васильевич? — задрожала, заплакала Ольга.
Сагайдак подумал, внимательно посмотрел на нее.
— Если сможешь, орудуй обыкновенной ножовкой. Протри ее чем надо и пили. А мне, чтобы легче было, Михайло Иванович отпустит из своих запасов стакан горилки. Только плакать не надо — ты уже партизанка. Михайло Иванович, принесите ножовку.
Чигирин, согнувшись, вышел из землянки, и караульный с удивлением заметил, что он почему-то вытирает рукой глаза…
Прошло несколько дней. Роман ночью охранял командирскую землянку, из которой теперь почти не выходила Ольга. После дежурства он пошел не в свое лесное жилье, а стал бродить по дубравам. Неподалеку от озерка его разыскал Василь и удивился, и встревожился: таким сникшим и осунувшимся он никогда не видел брата.
— Что с тобой, Роман? Может, захворал?
— Эх, лучше не спрашивай.
— Может, что-то с Ольгой?
— С Ольгой. — Говори, брат.
— Что ж говорить? — чуть не застонал Роман.
— Все.
— Сегодня она призналась Сагайдаку, что любит его. Это ж надо, чтобы я такое услыхал…
После долгого молчания Василь глухо спросил:
— А как на это командир?
— Он назвал ее маленькой и сказал, что это у нее не любовь, а великодушная женская жалость, что не меньше стоит, чем любовь.
— Нелегкие он весы нашел для нас и для себя.
— А ей, думаешь, легче?.. Вот и разберись теперь, что такое судьба.
— Не разберешься, брат.
— И все равно мы ее будем любить…
Не отставая друг от друга, они уже молча брели по опавшим листьям и примятым травам. На них обрушивались и обрушивались лесные шумы и стоны деревьев, обрушивалось золото солнца и осени. Да светило братьям не золото осени, а просвечивало из темени то трепетное, прикрытое женской рукой зернышко огня, с которым босиком шла к ним Ольга. И откуда ты взялась, на нашу беду? И все равно мы будем любить тебя… Да нужна ли ей наша любовь?
А зернышко огонька колеблется и колеблется и уже, кажется, поднимается из лесной земли, словно цветок папоротника. И что этот цветок папоротника и все сокровища под ним против испуганных ресниц, которые оберегают женскую тайну, женскую привлекательность? И откуда ты взялась, на нашу беду?..
Неожиданно близнецы натолкнулись на Данила Бондаренко, который с поникшей головой сидел на вырванном буреломом дереве. Что это с ним? Не случилось ли чего-нибудь с Мирославой?
Данило, увидев близнецов, медленно, словно после болезни, поднялся с дерева, молча кивнул братьям примятым чубом, в котором дрожал сухой листок.
— Что с вами, Данило Максимович?
— Не спрашивайте, хлопцы, — поморщился и с отвращением отпихнул от себя носком черную полицейскую шинель, которая почему-то лежала у его ног.
— Как же не спрашивать, когда печаль съедает вас?
— Не ест — пожирает. Такой еще не было. Вы знаете, была у меня злая година, а сейчас еще горше… — И умолк.
— Рассказывайте! — забеспокоились братья и стали с двух сторон возле Данила.
— О чем же рассказывать?! — вдруг на кого-то обозлился человек и снова сапогом пнул полицейскую одежду. — Ведь я должен напялить на себя чертову шкуру и стать полицаем. Весело?!
— Не очень, — переглянулись братья. — За что же вам такое наказание?
— Спросите у Сагайдака. Он заварил эту кашу. Лежит, со смертью борется, а всякую всячину выдумывает.
— Если сказал Сагайдак, то, выходит, так надо, — потупились братья.
— А мне легче от этого «надо»? Я лучше бы в самое пекло пошел драться с чертями, лишь бы только не надевать чертовской шкуры. Как на меня в ней посмотрят и что подумают люди?
— Да хорошего не подумают, — согласился Роман, перед глазами которого и до сих пор не гасло зернышко огня. — И все равно хорошо, что посылают вас, а не нас.
— Вот так так! — даже вздрогнул Данило и уже въедливо добавил: — Благодарю за искренность.
— Да вы не так нас поняли, — заволновался Василь. — Мы бы тоже пошли, если бы нас послали, но от этого было бы меньше толку: увидели бы какого-нибудь фашистского чина и сразу бы вогнали в него порцию свинца. А вы человек с выдержкой, вы скорее сжуете этот свинец, чем прежде времени выпустите его. Сагайдак — голова.
— Спасибо и за это, — не прояснилось лицо Данила. — Вы ж… невыдержанные, когда буду возвращаться в леса, смотрите не изрешетите эту чертову шкуру, которую мне сейчас надо натягивать на плечи. Пособляйте, хлопцы, а то сам не смогу.
— Очень нам нужны эти хлопоты, — будто недовольно забубнил Роман. — Давайте сожжем чертову шкуру.
— Как сожжем? — удивился Данило.
— Обыкновенно, — прячет глаза от него Роман. — Я разведу костер, Василь бросит в него это тряпье, а вы будете зрителем.
— Что же потом зрителю скажет Сагайдак?
— А это уже его дело. Мы сожжем, а вы отчитаетесь.
— Болтун! — махнул рукой Данило и наконец улыбнулся и снова нахмурился: — Все равно пойду сейчас к нему.