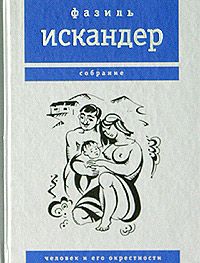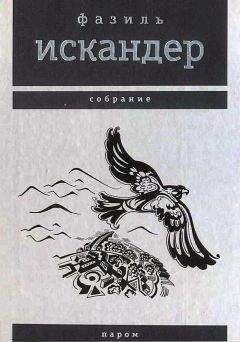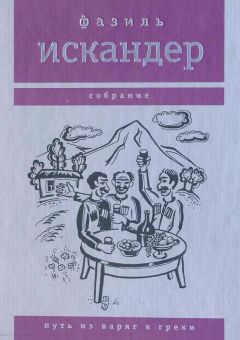Фазиль Искандер - Софичка
— Ах, Виктор Максимович, не говорите, — пожаловалась она, — сколько раз я ее предупреждала: «Не лежи так долго на солнце!» Не послушалась, и теперь у нее вся спина сгорела.
— Понятно, — сказал Виктор Максимович усаживаясь, и, обращаясь к нам, добавил: — Когда на юг приезжает интеллигентная женщина, она на третий день идет с ворохом писем по улице и спрашивает, где почта. А когда приезжает неинтеллигентная женщина, она на третий день ковыляет по улице и спрашивает, где бы купить простоквашу, чтобы обмазать обгоревшее тело. И таких множество.
Мы посмеялись наблюдению Виктора Максимовича, которое, может быть, отдаленным образом давало ответ на горестное недоумение женщины по поводу его одиночества. И женщина, как бы отчасти это поняв и смирившись, скорее всего временно, скрылась в темноте, держа в руках починенный Виктором Максимовичем маленький символ домашнего очага.
Виктор Максимович стал подробно объяснять журналисту, почему он винтовому аппарату предпочел махолет, а потом постепенно разошелся и выложил свое жизненное кредо.
— Человек должен взлететь сам, без мотора, — сказал он, — вся трагедия мировой истории в том, что человек, пытаясь удовлетворить свою самую коренную жажду, жажду свободы, все больше и больше закабаляется. Тысячелетия человеческой истории превратили его психологию в авгиевы конюшни. Только взлетев, он промоет свою душу и поймет истинную цену земной жизни — идеям, вещам, людям…
Внезапно он прервался, оглядел нас своим кротким и неукротимым взглядом, потом налил полстакана коньяка, поставил его в тарелку, набросал туда несколько кружков колбасы, ломоть лаваша и сказал:
— Людочка, отнеси моему стражу. От тебя ему приятней будет получить угощение… Фонарь лежит на кухонном столе.
Девушка принесла фонарь, зажгла его, взяла в руки тарелку и скрылась в темноте, как светлячок, сама себе освещая дорогу.
— Человек должен взлететь, иначе все мы погибнем, а вместе с нами и вся мировая культура, — продолжал Виктор Максимович, разлив коньяк по рюмкам и кивнув на свой махолет, который, казалось, прислушивается к нему, — это двенадцатый аппарат, который я сконструировал за свою жизнь. Шесть из них вдребезги разбились. Два — на земле, а четыре начали разваливаться в воздухе. Кто хотя бы на минуту испытал свободное парение в небе, тот не может не возвратиться на землю обновленным человеком. Он поймет, что это возможно, и будет бесконечно искать во всех формах земной жизни повторения этого счастья распахнутого полета. Он будет искать и добиваться его в книгах, в любви, в дружбе, в работе, во всем! Он приучится чувствовать проявление малейшей пошлости и подлости как омерзительного выражения антиполета, антипарения, как предательства своего собственного испытанного в полете счастья. Человечество ждет великое самовоспитание через полет и парение. Разумеется, это произойдет не в один день. Но когда появятся надежные варианты аппарата и наладится их промышленное производство, они будут ненамного дороже хорошего зонтика.
Сегодня нас, изобретателей подобных аппаратов, никто не поддерживает — ни спортивные организации, ни конструкторские бюро, ни министерства. Но мы должны доказать и докажем свою правоту.
— А много вас? — спросил я и, не вполне уверенный в уместности своего желания, потянулся за грушей.
— Я переписываюсь с двумя, — сказал Виктор Максимович, — один живет в Армавире, другой — в Полтаве. Но, наверное, есть еще.
— Да, есть, — подтвердил журналист, — к нам поступают сведения об этом. Но пока их мало.
Внезапно деревья сада и беседка озарились голубоватым мертвенным светом, и махолет побелел в этом свете, словно оголился. Это далекий пограничный прожектор на несколько мгновений просочился в сад, безмолвно вгляделся в него и унесся дальше шарить по берегу.
— С каждым годом их будет все больше, — сказал Виктор Максимович, — это неизбежно. Человек должен взлететь, и он взлетит. Никакая диктатура не сможет управлять летающими людьми, потому что у летающего человека будет совсем другая психология.
— А разве ваш милиционер не сможет пристрелить летающего человека? — спросил журналист.
Из темноты пришла девушка и поставила на стол тарелку и стакан.
— Нет, не сможет, — без всякой улыбки сказал Виктор Максимович, — потому что он сам тогда будет летающим человеком.
— Ну, как он там? — спросил аспирант у своей девушки.
— Выпил за мое здоровье, — сказала она, просияв, — может, позвать его сюда?
— Это лишнее, — заметил Виктор Максимович, — пусть стоит там, где его поставили.
— Неужели они не знают, что без разгона вы отсюда взлететь не можете? — спросил аспирант.
— Конечно, знают, — сказал Виктор Максимович, — но это и есть безумие нашей жизни. Человек ежедневно совершает тысячи подобных глупостей, и мы все им подчиняемся. Но, как только человек взлетит, бессмысленность этих глупостей всем станет очевидной.
— А что, в плохую погоду они тоже дежурят? — спросил я и, встав со стула, потянулся к винограду, свисавшему с беседки.
— В плохую погоду я их пускаю в сарай, — сказал Виктор Максимович и, проследив за моими действиями, добавил: — С южной стороны зрелей.
Я сорвал несколько кистей винограда, одну из них протянул девушке, а остальные положил на стол.
— А как давно они дежурят? — спросил аспирант.
Он взял со стола гроздь винограда, словно неосознанно обращая обе кисти, и ту, которую он взял, и ту, которую держала его девушка, — наглядный символ их парности. Но в отличие от своей девушки, которая уже ощипывала ягоды, он только жадно внюхался в гроздь, как бы не решаясь разрушить символ.
— Лет двадцать, — ответил ему Виктор Максимович, подумав, — с перерывами. После двадцать второго съезда отменили дежурство. Но после чешских событий снова стали дежурить.
С некоторым мистическим трепетом я ощутил всепроникающую неотвратимость идеологических щупальцев. Огромный и как бы неуклюжий аппарат идеологии где-то в Москве делает поворот, и в зависимости от него в непомерной дали, здесь, в поселке под Мухусом, возле участка Виктора Максимовича, появляется или исчезает милиционер.
И снова фантастическим, синим, дрожащим на листьях светом озарился сад. И опять несколько мгновений белел в этом свете словно оголившийся махолет. Потом свечение погасло, истекло, и луч прожектора унесся дальше высвечивать берег.
Девушка поежилась и, войдя в дом, вышла оттуда с шерстяной кофточкой, накинутой на плечи. Мы выпили по последней рюмке и стали собираться.
— Сейчас дам одеяло моему охламону и провожу вас, — сказал Виктор Максимович и вошел в дом. Через минуту он вышел с одеялом в руках, пошел в сторону берега и потонул в темноте. Видимо, он остановился над краем участка, потому что раздался его голос:
— Где ты там? Держи!
Мы попрощались с аспирантом и его девушкой. Виктор Максимович взял со стола фонарь, и мы, сделав несколько шагов, окунулись в вязкую черноту южной ночи. Виктор Максимович шел сзади, бросая нам под ноги жидкую полоску света. Мы перешли железную дорогу, прошли тропинкой, то и дело теснимой зарослями разросшейся ежевики, и вышли на шоссе к автобусной остановке.
— Если материал пройдет, пришлите газету, — сказал Виктор Максимович журналисту и пожал нам обоим руки бодрящим рукопожатием, словно пытаясь влить в нас часть своей неукротимой веры. Мне подумалось — только мечту и ловить такой сильной и цепкой ладонью. Он ушел в черноту ночи, не зажигая фонаря, потому что хорошо знал дорогу.
Последнее
В ту зиму Виктор Максимович, как обычно, разобрав и сложив свой махолет, уехал вместе с ним в Москву. В начале марта я пил кофе в верхнем ярусе ресторана «Амра». День уже был по-весеннему теплый. Чайки с криками носились возле пристани-кофейни, на лету подхватывая куски хлеба, которые им подбрасывали люди, стоя у поручней ограды.
К столику, стоявшему рядом с моим, подошел толстый человек с брюзгливым выражением лица. Я сразу же узнал в нем того соседа, который приходил к Виктору Максимовичу со «Спидолой».
— Скажите, — обратился я к нему, когда он, хлебнув кофе, рассеянно взглянул в мою сторону, — Виктор Максимович приехал?
Толстяк внимательно посмотрел на меня, и лицо его сделалось еще более брюзгливым и мрачным. Он явно меня не узнал.
— А кто ви ему будете? — спросил он настороженно. Его настороженный голос вызвал во мне смутное, неприятное чувство.
— Я его друг, — сказал я, — однажды, когда мы сидели у него в гостях, вы к нему заходили со «Спидолой»…
По мере того как я говорил, лицо его мрачнело и мрачнело, и я все сильнее и сильнее чувствовал приход непоправимого и фальшь своего многословия. Господи, при чем тут «Спидола»!