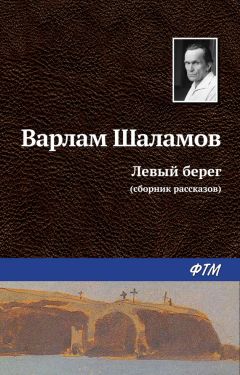Наталья Баранская - Неделя как неделя
Вдруг из детской доносится страшный крик:
— Папа, не бей маму, не бей маму!
Дима хватает Гульку, уже завернутую в простынку, и мы бежим в детскую. Котька стоит в кроватке весь в слезах и твердит:
— Не бей маму!
Я беру его на руки и начинаю утешать:
— Что ты такое придумал, маленький, папа никогда меня не бьет, папа у нас добрый, папа хороший…
Дима говорит, что Коте приснился страшный сон. Он гладит и целует сына. Мы стоим с ребятами на руках, тесно прижавшись друг к другу.
— А почему она плачет? — спрашивает Котя, проводя ладошкой по моему мокрому лицу.
— Мама устала, — отвечает Дима, — у нее болят ручки, болят ножки, болит спинка.
Слышать это я не могу. Я сую Котьку Диме на вторую руку, бегу в ванную, хватаю полотенце и, закрыв им лицо, плачу так, что меня трясет. Теперь уж не знаю о чем — обо всем сразу.
Ко мне подходит Дима, он обнимает меня, похлопывает по спине, гладит и бормочет:
— Ну хватит… ну успокойся… ну прости меня… ну перестань…
Я затихаю и только изредка всхлипываю. Мне уже стыдно, что я так распустилась. Что, собственно, произошло? Сама не могу понять.
Дима не дает мне больше ничего делать, он укладывает меня, как ребенка, приносит мне чашку горячего чая. Я пью, он закутывает меня, и я засыпаю под звуки, доносящиеся из кухни, — плеск воды в мойке, стук посуды, шарканье шагов.
Я просыпаюсь и не сразу могу понять, что сейчас — утро, вечер, и какой день? На столе горит лампа, прикрытая поверх абажура газетой. Дима читает. Мне видна только половина его лица: выпуклина лба, светлые волосы — они уже начинают редеть, — припухлое веко и худая щека — или это тень от лампы? Он выглядит усталым. Бесшумно переворачивает он страницу, и я вижу его руку с редкими рыжеватыми волосками и обкусанным ногтем на указательном пальце. «Бедный Дима, ему тоже порядком достается, — думаю я, — а тут еще я разревелась, как дура… Мне тебя жалко. Я тебя люблю…»
Он выпрямляется, смотрит на меня и спрашивает, улыбаясь:
— Ну как ты, Олька, жива?
Я молча вытаскиваю руку из-под одеяла и протягиваю к нему.
Воскресенье
Мы лежим, просто лежим, — моя голова упирается в его подбородок, его рука обнимает меня за плечи. Мы лежим и разговариваем о всякой всячине: о Новом годе и елке, о том, что сегодня надо съездить за овощами, что Котьке не хочется ходить в садик…
— Дим, как ты думаешь, любовь между мужем и женой может быть вечной?
— Мы ведь не вечны…
— Ну само собой, может быть долгой?
— А ты уже начинаешь сомневаться?
— Нет, ты мне скажи, что, по-твоему, такое эта любовь?
— Ну, когда хорошо друг с другом, как нам с тобой.
— И когда рождаются дети…
— Да, конечно, рождаются дети.
— И когда надо, чтобы они больше не рождались.
— Ну что ж. Такова жизнь. Любовь — часть жизни. Давай-ка вставать.
— И когда поговорить некогда.
— Ну, говорить — это не самое главное.
— Да, наверное, далекие наши предки в этом не нуждались.
— Что ж, давай поговорим… О чем ты хотела?
Я молчу. Я не знаю, о чем я хотела. Просто хотела говорить. Не об овощах. О другом. О чем-то очень важном и нужном, но я не могу сразу начать… Может быть, о душе?
— У нас в коробке последняя пятерка, — говорю я.
Дима смеется: вот так разговор.
— Что ты смеешься? Вот так всегда — говорим только о деньгах, о продуктах, ну о детях, конечно.
— Не выдумывай, мы говорим о многом другом.
— Не знаю, не помню…
— Ладно, давай лучше вставать.
— Нет, о чем «о другом»? Например?
Мне кажется, что Дима не отвечает очень долго. «Ага, не знаешь», — думаю я злорадно. Но Дима вспоминает:
— Разве мы не говорили о Роберте Кеннеди? О космосе — много раз?.. О фигуристах — обсуждали, спорт это или искусство… О войне во Вьетнаме, о Чехословакии… Еще говорили о новом телевизоре и четвертой программе, — продолжает добросовестно вспоминать Дима темы наших разговоров. — Кстати, когда ж мы купим новый телевизор?
— Так вот я и говорю: в коробке у нас пятерка…
— Есть же фонд…
Мы начали откладывать «фонд приобретений». Он хранится в моей старой сумке, а в коробке лежат деньги на текущие расходы.
Нам много чего надо. Диме плащ, мне туфли, обязательно платье, ребятам летние вещи. А телевизор у нас есть — старый «КВН-49», брошенный тетей Соней.
— До телевизора еще далеко, фонд растет у нас плохо, — говорю я.
— Мы же решили не проедать все деньги, что же ты? — укоряет меня Дима.
— Не знаю, вроде бы все как обычно, а вот не хватает.
Дима говорит, что так у нас никогда ничего не будет. А я отвечаю ему, что трачу только на еду.
— Значит, тратишь много.
— Значит, ешь много.
— Я много ем?! — Дима обижен. — Еще новости, давай начнем считать, кто сколько ест!
Мы уже не лежим, а сидим друг против друга.
— Прости, я говорю: мы много едим.
— Что ж я могу с этим поделать?
— А я что?
— Ты все-таки хозяйка.
— Скажи, чего не покупать, я не буду. Давай молоко не будем брать.
— Давай лучше прекратим этот глупый разговор. Если ты не способна соображать в этом деле, так и скажи.
— Да, да, да, я не способна соображать. Я глупа, и все, что я говорю, глупо… — Я вскакиваю и ухожу в ванную.
Там я открываю кран и умываю лицо холодной водой. «Перестань, сейчас же прекрати», — говорю я себе. Сейчас я влезу под душ, сейчас приведу себя в норму. Отчего я злюсь? Не знаю.
Может, оттого, что я вечно боюсь забеременеть. Может, от таблеток, которые я глотаю. Кто знает?
А может, она вообще не нужна мне больше, эта любовь?
От этой мысли мне становится грустно, жаль себя, жаль Диму. Жалость и теплая вода делают свое дело — из-под душа я выхожу подобревшая и освеженная.
Ребята визжат и хохочут — расшалились с отцом. Достаю им все чистое, мы их одеваем.
— Вот какие у нас красивые дети, — говорю я и зову на кухню накрывать вместе на стол, «пока папа умывается».
Во время завтрака проходит короткая планерка. Что сегодня надо сделать: съездить в овощной, постирать детское, все перегладить…
— Бросай все, пойдем гулять! — заключает Дима. — Смотрите, какое солнышко!
— Мама, мамочка, пойдем вместе с нами, — упрашивает Котька, — посмотрим солнышко!
Я сдаюсь — отодвину свои дела на после обеда.
Снаряжаемся, берем санки и отправляемся на канал кататься с гор. Съезжаем все по очереди, а Гулька то с Димой, то со мной. Горка крутая, накатанная, санки летят, из-под ног брызжет снежная пыль, переливается радужно, а кругом сияет и слепит снег. Иногда санки переворачиваются, ребята пищат, мы все смеемся. Хорошо!
Возвращаемся домой заснеженные, голодные, веселые. Пусть уж Дима сначала поест, потом пойдет в магазин. Варю макароны, подогреваю суп и котлеты. Ребята сразу же уселись за стол и смотрят на огонь под кастрюлями.
После прогулки я очень повеселела. Уложив детей и отправив Диму в овощной рейс, я берусь сразу за все — бросаю в таз детское белье, мою посуду, стелю на стол одеяло, достаю утюг. И вдруг решаю: подкорочу-ка я юбку. Что я хожу, как старуха, с почти закрытыми коленками! Я быстро отпарываю подпушку, прикидываю, сколько загнуть, остальное отрезаю. За этим делом и застает меня Дима, притащивший полный рюкзак.
— Видишь, Олька, как тебе полезно гулять.
Конечно, полезно. И, кончив приметку, я надеваю юбку. Дима хмыкает, оглядев меня, и смеется:
— Завтра будет минус двадцать, будешь обратно пришивать. А в общем, ножки у тебя славные.
Я включаю утюг — загладить подол. Потом подошью, и готово!
— Погладь мне заодно брюки, — просит Дима.
— Дим, ну пожалуйста, погладь сам, я хочу кончить юбку.
— Ты же все равно гладишь.
— Дим, совсем это не «все равно», я тебя прошу, дай мне кончить. Мне еще ребячье стирать, вчерашнее гладить.
— Так зачем же ты занимаешься ерундой?
— Дим, давай не будем обсуждать эта, прошу тебя, погладь сегодня свои брюки сам, мне надо дошить.
— А куда ты завтра собираешься? — спрашивает он с подозрением.
— Ну куда?! На бал!
— Понятно. Просто я подумал, что у вас там что-нибудь такое.
— Может быть, и «такое», — напускаю я туману (надо же мне спокойно подшить юбку и как-то отделаться от брюк). — Ты помнишь, я тебе говорила про анкету. Сегодня я должна ее заполниъ: завтра придут демографы — анкеты собирать, с нами беседовать…
— А! (О господи, он, кажется, думает, что ради этой встречи я решила укоротить юбку!)
Я шью и рассказываю Диме, что попечители наши дни «по болезни», что у меня семьдесят восемь дней — почти целый квартал.
— А что, Олька, может, тебе лучше не работать? Подумай, ведь почти половину годаа ты сидишь дома.
— А ты хочешь засадить меня на весь год? И разве мы можем прожить на твою зарплату?