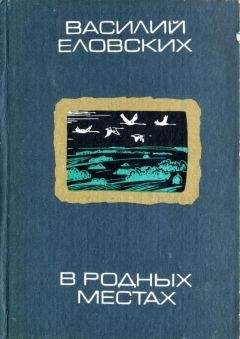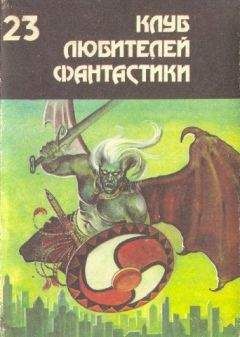Василий Еловских - Старинная шкатулка
Она, по всему видать, все больше и больше накалялась. Сейчас что-нибудь наорет себе на голову. Да уже наорала. По натуре своей Дмитрий Ефимович тоже нервный и вспыльчивый, не человек — кипяток, но всеми силами сдерживается, старается быть спокойным, ровным, культурненьким: ведь несдержанность и грубость вредят больше всего самому себе.
Что это она трясется? Даже как-то странно головой заподергивала. Еще упадет. Или угостит Пискунова чем-нибудь по башке. Это подергивание как-то сразу охладило его, и он, уже не чувствуя прежней злой радости, сказал тихо и нервно:
— Ладно, поспорили — и хватит. Идите. Успокойтеся. Хватит! Баста!
Хоть и тихо, а звучало все же как команда. Хохлова и это почувствовала. Стоит, молчит и смотрит. Ненавистнически. Прямо-таки оторваться не может. А голова дергается. Что-то все же… Ему стало немножко жаль женщину. Он еще раз посмотрел на дергающуюся голову и вдруг скрипнул зубами от горечи, внезапно нахлынувшей на него. От горечи и от недовольства собой. Сейчас уже недовольства собой. Его будто холодной водой окатили. Чего так пристает к старухе? Пусть живет сама по себе. Как быстро сегодня менялось у него настроение. Это его самого дивило.
«Почему у нее так дергается голова? Как-то странно дергается». Он тяжело вздохнул:
— Может, водички принести?
Не отвечая, она пошла к себе.
Он удивился, вроде бы даже слегка вздрогнул, увидев сына Кольку, ученика восьмого класса, тот стоял у входной двери в коротеньком, не по росту пальтишке, со старым портфелем (Дмитрий Ефимович купил этот портфель лет пять назад на толкучке по сходной цене), тощеватый, сутулый, удивительно похожий на отца. Стоит, глядит. И как глядит — испуганно и недобро.
— Ты чо глаза-то вылупил? — спросил старший Пискунов. Спросил тихо и тоже недобро.
Он недолюбливает сына, и сын вроде бы понимает это. Колька кажется ему упрямцем и самолюбом. Такой здоровенный парень, в его годы Дмитрий Ефимович уже вовсю вкалывал в колхозе (мужиков в ту далекую военную пору было в деревне раз-два — и обчелся) и дома все тянул на себе — убирал во дворе, рубил дрова, поил и кормил корову и овечку, ни от чего не отказывался, а этот такой здоровый, мужик мужиком, а все еще на готовеньком: подай, поднеси, любит сладенькое, не пахал, не сеял, молотка в руках не держал, а туда же: «Все какое-то у нас не вкусное», «А эта мебель не современная…» Бары!..
— Что ты все время лезешь на нее? — Глотая слюни и глядя уже себе под ноги, Колька прошел по коридору, вяло, как старик. Покосился на отца: — На всех лезет…
— Ладно, не твое дело. Ничо я не лезу.
— Только и знаешь: «Не твое дело».
— Помолчи! Ничего ты в этом деле не понимаешь.
Пискунову не хотелось говорить с сыном. Он и сам не знает, почему не хотелось. Не хотелось — и все. И слова Колькины были страшно неприятны ему.
Колька, по всему чувствуется, тоже недолюбливает его: все время что-то присматривается, приглядывается, будто впервые видит, и нет между ними искренности и теплоты, какая бывает обычно между родителями и детьми. Только однажды было, давно еще, года три назад… Они ездили с Колькой к родичам на север. Целыми днями шатались по тайге, по чащобам, дивясь, сколь много там свалившихся от старости сосен, елей, покрытых седоватым мхом, — длинные пушистые могилки, рыбачили в глухих озерках, собирали ягоды, грибы и однажды даже заблудились в ненастье и, пока выбирались, измокли, измотались ну донельзя. Колька был беспомощен, как телок, слегка ошеломлен и напуган. Дмитрий Ефимович знает тайгу, еще бы: его родная деревня — таежная. Он был уверен, что они в конце концов куда-нибудь выйдут, — в тех местах тайга вся исполосована реками, речками, свежими дорогами и тропинками — и потому не шибко боялся, хотя какая-то тревога, конечно, была, он утаивал ее от сына, прикрываясь безобидной грубостью и примитивными шутками. Это дальше, совсем уж к северу, начнется тайга безлюдная, пугающая. Да, тогда он и Колька понимали друг друга.
Пришла жена. Она уходила куда-то и ссору Пискунова с Хохловой не слышала. Слышать не слышала, но… Они переглянулись, мать и сын, и не просто переглянулись, а как бы что-то мысленно сказали друг другу, понятное обоим, и, конечно же, ругнули его. Дмитрий Ефимович безошибочно почувствовал это: ведь взглядом можно сказать даже откровеннее, полнее, чем словами.
Пискунову не хотелось больше спорить, не хотелось ругаться, и причиной тому были не только усталость и тягость на душе, но и еще что-то от… гордыни: говорить с ними — значит унижаться, и, пренебрежительно фыркнув, зло глянув на них, начал одеваться.
У него было два демисезонных пальто, одно из них он купил еще лет двадцать назад тоже на толкучке, помнится, у какого-то горластого пьянчуги, за бесценок, из добротного драпа, куда с добром пальтецо было. В ненастье, а также весной, когда с крыш течет и под ногами чавкает грязь, Пискунов облачается в него; он бережет одежду, носит подолгу, и Нине Ивановне приходится подделывать пальто и костюмы, чтобы они не выглядели слишком уж старомодными.
2Будучи не в духе, Пискунов всякий раз уходил на улицу и бродил по окраинным, безлюдным кварталам, углубленный в свои мысли, в свои тяжелые чувства, а если было время, выбирался за город на лесные дороги и шагал, шагал, час, другой, третий, ходьба — лучшее лекарство от слабости и гнетущего настроения. Но сегодня и на окраинных улицах было людно и шумно: выходной.
Он шел ссутулившись, нахлобучив на глаза старенькую кепчонку, и вспоминал, как спорил с соседкой, как переглядывались Колька с матерью (до чего же ему было тошнехонько от их немого переглядывания). Его раза два толкнули прохожие, и он пожалел, что не надел новое пальто и шляпу, тогда у него представительный вид, будто у начальника какого.
По улицам Пискунов ходит только с правой стороны. И его удивляет, что многие ходят как попало — и слева-то, и посредине, а то и вовсе чудно: вихляются, вихляются на тротуаре, будто пьяные. Вот и сейчас прямо на него бредет старичок, покачиваясь, опираясь на палку, тощий (совсем от старости высох), с опущенной головой. Дмитрий Ефимович уступил ему дорогу. «Ох и доходяга!» За старичком шагал усатый толстячок, интеллигентный, солидный, какой-то начальничек, видать. Начальничек-то начальничек, а порядок нарушает — не справа ходит, а слева. Дмитрий Ефимович решил не уступать ему дороги, но в последний момент, перед тем как столкнуться, змейкой вильнул влево. Не выдержал. А ведь всегда считал себя смелым. Он не труслив. Он знает это.
По его стороне шагал еще один толстячок, только попроще и поменьше ростиком. Они столкнулись плечами. Пискунов весь напрягся, чтобы смягчить для себя удар, и, рассерженный нахальством прохожих, слегка выпятил плечо. Но мужчина крепко стоял на ногах, шел быстро, и Пискунова ударило как поленом. Это его вконец разозлило, и, когда он увидел, что на него идет, прямо-таки прет какой-то высокий парень в дорогой одежде, но с простым грубоватым лицом, он отгородился от него рукой и, поравнявшись с ним, сказал громко и грубо:
— Ходи с правой стороны.
— Чего? — глуповато и недовольно крикнул парень, остановившись.
Пискунов на ходу обернулся:
— Надо ходить с правой стороны.
Вот сейчас уж он был доволен: не отступил и сделал замечание прохожему — все получилось как надо. Однако на душе все равно было как-то погано, нехорошо как-то. Он понимал, что нелепо обижаться на прохожих, толкаться, портить настроение себе и людям, но ничего не мог поделать с собой, его так и разбирала злоба.
На него перла мордастая девка в малинового цвета пальто, ярко-синей шляпе и с желтым шарфом (раскрашена как павлин); шла по-солдатски твердо и шумно. Рожа самоуверенная, нагловатая. Девка эта как-то сразу не понравилась Дмитрию Ефимовичу. Он отступил к самому краю тротуара, но какой уж отступ — полшага, дальше — стена дома, понимая, что столкновения все равно не избежать. Ему показалось даже, что девка хочет толкнуть его. Ну толкай, толкай, голубушка! Он перебросил портфель из правой руки в левую (в этом старом портфеле он носил молоко из магазина, а сейчас прихватил его, чтобы купить вина) и, когда девка налезла, резко дернул портфель, чувствуя, как грубо бороздит по ее пальто и коленям. Подумал: не надо бы, женщина все-таки, но мысль эта тотчас вылетела из головы.
Квартала два, слава богу, шел спокойно. А потом появились пять горластых парней. Идут в одну шеренгу, заполнив в ширину почти весь узенький тротуар. Да какое идут — почти бегут. Хоть на дорогу прыгай от них или прилипай к кирпичной стене дома.
«Что им до других, — иронично подумал Дмитрий Ефимович. — Ведь каждый из них почти гений».
На Пискунова летел левый крайний из пятерки — тощий коротконогий малый, с выпученными, рачьими глазами. Он был тут как бы в пристяжке, жалкий подражатель остальным четырем, рослым парням с холеными мордами. Пискунов почувствовал легкий холодок не то от испуга, не то от злости. А малый вроде бы и не видел его и, подхалимски подхохатывая, пялил глаза на своих спутников, и, только подскочив вплотную к Пискунову и увидев его злобные расширенные глаза, ойкнул и был отброшен сильной рукой Дмитрия Ефимовича.