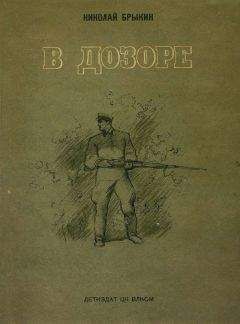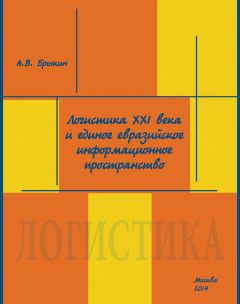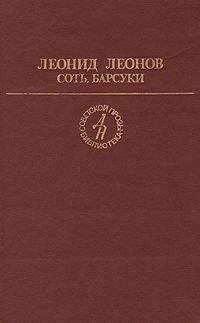Леонид Леонов - Барсуки
Четыре месяца спустя по приезде в Зарядье родила Катерина Иванна девочку Настю. Быть бы в той нечаянной семье счастью и хотя бы наружному благополучию, как вдруг простудилась Катерина и слегла. Дочке тогда третий год шел, когда у матери ноги опухли. Все же переползала от кровати к окну, бездельно сидела под окном, наблюдая чужую жизнь, жалко улыбалась, стыдясь самой себя.
Ее-то, так же, как и Сеня пятнадцать лет спустя, увидел Катушин, тачая камилавку, дар прихожан приходскому попу. И оттого, что прожил без любви, а перед тем собачка у него околела, полюбил он Катерину Иванну, чужую в чужом окне, тоскующую. Но только в убогих стишках своих смел говорить он о своей любви. Ключ же от сундучка, где таилась его тетрадка, стал прятать далеко-далеко, на шейный шнурок.
Оставался еще в Катерине кусочек смысла: покрикивала по хозяйству, штопала носки самому. Вскоре, однако, совсем ей ноги отказались служить. Положили тогда Катерину Иванну в угловой комнатушке, завесив окно той самой шалью, в которой, к слову сказать, к свадьбе ехала. Двигаться Катерина Иванна уже не могла, и все надобности за нее оправляла Матрена Симанна, новоявленная тетка Катерининой двоюродной сестры, из Можайска. Эта, толстая и злая, и креститься помогала хозяйке ее малоподвижною рукой, она же и молитвы за нее шептала, поясняя целителю Пантелеймону тупое бормотанье хозяйкиных губ. Она же приходила на помощь и в остальном.
Секретов запивал. Раз ночью, когда боролись в нем пьяные чувства, пришел к жене.
– Ты меня, Катерина, прости... за все гуртом прости! – сказал он тихо, стоя в дверях, и обмахнул увлажнившиеся глаза рукавом.
Та лежала, неподвижная, страшная, белая.
– Слышь, жена, – прощенья прошу! – повторил терпеливо он, барабаня пальцами себя в лоб.
Она молчала, а Секретов, разойдясь, уже бил кулаками в притолоку:
– Да что ж ты, как башня, лежишь... не ворочаешься?.. – завопил он.
С той поры совсем он махнул рукой на Катерину.
Зато, как-то случилось, стал Катушин ходить к тому, что было когда-то Секретовской женою. Приходил вымытый, в чистенькой старенькой рубахе, садился возле кровати и сидел тихо, полузакрыв глаза. Иногда – рассказывал слышанное и читанное, смешное, не получая никакого ответа да и не нуждаясь в нем. Своей любви остался Катушин верен и любил Катерину, быть может, больше, чем если бы она была здорова. Он же пробовал лечить ее отваром капустного листа.
Тут, в этом темном тупике, плодилась моль, мерцала лампада, воркотала очередная монашенка, и из года в год, возле столика, уставленного лекарственным хламом, бесшумно сидел Катушин. Так он научился понимать смутный язык больной. Однажды сказал Насте:
– Ты заходи к матери-то. Сердится, что не бываешь.
В другой раз осмелился сказать Секретову:
– Что ж ты ее, Петр Филиппыч, просвирками-то моришь?.. Ты-бы ей щец дал!..
IX. Настюша.
Настюша росла девочкой крепонькой, смуглой как вишенка, в постоянном смехе, как в цвету.
Детство свое помнила лет с шести: дядя Платон куклу подарил. Кукла была с фокусом, плакала и моргала, как и всякий настоящий человек. Недолговечны детские утехи. Вечерком распорола Настюша кукле животик, чтоб узнать фокус куклиной жизни. Там оказалась только пружинка да еще жестяной пищик, вонявший столярным клеем. Настюша пружинку вынула и на другой день сделала из нее просто проволочку, а куклу облила чаем, чтоб скрыть преступленье, и линялую, обесчещенную, подкинула матери под кровать. Из-под материной кровати не выметали, чтоб не тревожить больную. Да и какой от больного сор? больной – не живой!..
Никто и не заметил, а отцу не было никакого дела до Настиных поступков. «Расти, сколько в тебе росту хватит. Дал тебе жизнь, даю хлеб. Вот и пожалуйста!» – таков был неписанный договор между отцом и дочерью. У отца в то время ширились дела, требовали и воли, и глаза, и времени. Каждый винтик в общей машине хотел, чтоб и за ним присмотр да хлопоты были. И боялся Секретов обидеть невниманьем вещь, чтоб не напакостила потом.
Лишь в воскресные дни, садясь за стол, спрашивал, посмеиваясь:
– Ну, Настасья Петровна, как живете-можете, растете-матереете?
– Ничего, папенька... матереем! – деликатно пищала восьмилетняя Настасья Петровна.
Матери Настюша боялась, как страшного сна. Когда приводила ее к матери Матрена Симанна, стояла Настя робко, говорила тоненько, с трепетом ожидая липкого материна поцелуя.
Потом одевала, волнуясь и спеша, оборванную засаленную шубку и дырявый шерстяной платок, – вихреподобно уносилась на улицу. Дом ее пугал: там были жирные, грузные пироги, непонятная мать, толстощекая Матрена Симанна, жующая мятную лепешку для прохлажденья рта. – Тайком от самого баловалась Матрена Симанна винцом.
Так и росла Настюша на улице, без нянек и присмотров. Бегала с ребятами через Проломные ворота на реку, тонула однажды в проруби, дразнила вместе со всей ребячьей оравой извозчиков, татар, иззябших попугаев на шарманках у персов. Шумливая и загадочная, звала ее улица. Она сделала Настю бойкой. Тела ее, изворотливого и гибкого, никакой случайностью было не удивить... В городском училась – детскую мудрость срыву, по-мальчишечьи брала. Остальное время с мальчишками же вровень каталась на коньках вдоль кремлевского бульвара, скатывала снежных страшилищ: любопытно было наблюдать, как точит их и старит и к земле гнетет речной весенний ветр. То-то было шумно и буйно, непокорно и весело...
Двенадцатая весна шла, придумали необычное. В голове у снежного человека дырку выдолбили и оставили на ночь в ней зажженный фитилек. Дырку замазали снегом. – Всю ту ночь, думая об этом бесцельном огоньке, томилась без сна Настя. Ах, какой славный ветер в ту ночь был! Как бы облака сталкивались и гудели, словно тесно стало в весеннем небе облакам. Но на утро нашли в огоньковой пещерке только копоть. Недолго погорел фитилек. Тут еще снег пошел, лужицы затянулись. Так впервые изведала Настюша горечь всякой радости и грусть весны.
Жадно впитывала Настя все, что давало впечатленья. А раз мальчишки в угольный сарай ее затащили, мяли и учили гадостям, – каждый старался друг дружку в пакостном геройстве превзойти... А она уже знала, не удивлялась, не плакала и даже до крови растревожила нос одному из них, самому настойчивому.
Раз осенью, поутру, окончилось Настино детство. От обедни возвращаясь вместе, сказал Секретов Зосиму Быхалову ото всей полноты души:
– Паренька твоего видал. Хороший, ласковый...
– Законоучитель у них там сказал: ваш, говорит, сын перстом отмечен, – довольно пробурчал Быхалов.
– Надо и мне Настюшку мою к занятиям пристроить. Как знать, какие жеребьи выпадут... Вдруг да посватаетесь? Негоже будет умному-то мужу да глупую жену! – зубоскалил Петр Филиппыч.
– Коли товар хорош выйдет, чем мы не покупатели? – пощурился и Быхалов. – Только что ж ты ее ровно просвирню водишь? Бабочка славная растет.
– Бабочка славная... – повторил задумчиво Секретов и впервые оценил дочь.
Сделали новую шубку Настюше, – здесь и кончилось детство. В новой не так возможно стало и в угольных сараях прятаться, и валяться в снегу. Настю отдали в купеческий пансион. В канун того дня заходила Настя к отцу проститься на ночь. Тот сидел на кровати без поддевки и без сапог, усталый и хмурый, в предчувствии запоя.
– Ну, девка, – заговорил он, усаживая ее на колени, – смотри у меня!
– Я смотрю, – сказала Настюша и поджала губы.
– Да не егозой расти, а яблочком... Чтоб каждому от тебя и рот вязало, и душу тешило. Живи и никому спуску не давай. На меня гляди: мужиком пришел, двадцать лет меня жизнь в ладонях терла, а все целехонек. Чувствуешь?..
– Да, – не робея, сказала Настюша, скашивая глаза на порожние бутыли, оставшиеся в углу от прошлого запоя.
– Учись и божье слово слушай, на то человеку и уши даны. Без него, девка, плохо дело, тем и кормимся...
– А у вас, папенька, – давясь смехом, спросила Настюша, – ухи большие, тоже для божьих слов?.. – она не выдержала и рассмеялась, точно целая связка колокольчиков раздернулась и раскатилась по полу.
– Папенька, извините, у меня губы чешутся... – уходя, попросила Настя.
...Тем временем названный жених Настин вступал в университет. Часто, к вящшему недовольству отца, пропадал ночи, путался с волосатыми приятелями, худел и бледнел. Казалось, не шла Петру впрок усидчивая его наука. А среди белых пансионских стен, намекавших на девическую невинность содержательницы, мадам Трубиной, науками, напротив, не утруждали. Преобладали танцы и арифметика. Беря с купеческих девиц втридорога, боялась Трубина потерять лишнюю ученицу. Какой-то защелканный, многосемейный немец вслух переводил по пять строчек в день, с грустным ужасом глядя на сидящих перед ним круглолицых, румяных девиц. Зато Евграф Жмакин, учитель танцев, был неизменно весел и летающ, походя на пружинного беса; казалось, что мать его так в танце и родила.