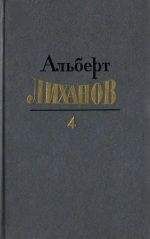Борис Пильняк - Голый год
— Сектантство? Сектантство, говоришь? А сектантство пошло не от Петра, а с раскола!.. Народный бунт, говоришь? — пугачевщина, разиновщина? — а Степан Тимофеевич был до Петра!.. Россия, говоришь? — а Россия — фикция, мираж, потому что Россия — и Кавказ, и Украина, и Молдавия!.. Великороссия, — Великороссия, говорить надо, — Поочье, Поволжье, Покамье! — ты мне внучек или племянник? — Все спутал, все спутал!.. Знаешь, какие слова пошли: гвиу, гувуз, гау, начэвак, колхоз, — наваждение! Все спутал!
Вскоре говорит один попик, архиепископ Сильвестр, бывший князь и кавалергард. Голый череп, как крышка гроба, придвинут к Глебу, и строго смотрят глазки из бороды.
— Как заложилось государство наше Великороссия? — начало истории нашей положено в разгроме Киевской Руси, — от печенегов таясь, от татар, от при и междоусобья княжеских, в лесах, один на один с весью и чудью, — в страхе от государственности заложилось государство наше, — от государственности, как от чумы, бежали! Вот! А потом, когда пришла власть, забунтовали, засектантствовали, побежали на Дон, на Украину, на Яик. Не потому ли, не потому ли несла Великороссия татарщину татарскую, а потом немецкую татарщину, что не нужна она была им, ей в безгосударственности ее, в этнографии? — не нужна… Побежали на Дон, на Яик, — а оттуда пошли в бунтах на Москву. И теперь — дошли до Москвы, власть свою взяли, государство строить свое начали, — выстроят. Так выстроят, чтобы друг другу не мешать, не стеснять, как грибы в лесу. Посмотри на историю мужицкую: как тропа лесная — тысячелетие, пустоши, починки, погосты, перелоги — тысячелетие. Государство без государства, но растет как гриб. Ну, а вера будет мужичья. По лесам, по полям, по полянам, тропами, проселками, тогда из Киева побежав, потащились, и — что, думаешь, с собой потащили? — песни, песни свои за собой понесли, обряды, пронесли через тысячелетие, песни ядреные, крепкие, веснянки, обряды, где корова — член семейства, а мерин каурый — брат по несчастью; вместо пасхи девушек на урочищах умыкали, на пригорках в дубравах Егорию, скотьему богу, молились. А православное христианство вместе с царями пришло, с чужой властью, и народ от него — в сектантство, в знахари, куда хочешь, как на Дон, на Яик, — от власти. Ну-ка, сыщи, чтобы в сказках про православие было? — лешаи, ведьмы, водяные, никак не господь Саваоф.
И серенький попик хитро хихикает, хитро смеется и говорит уже в смехе, с глазами, сощуренными в бороде:
— Видишь, краюху? — носят! Вот! Хи-хи! Ты мне внучек? Никому не говори. Никому. Все в Истории моей сказано. Мощи вскрывали — солома?.. Слушай, вот. Сектанты за веру на костер шли, а православных в государственную церковь за шиворот тащили: — как там хочешь, а веруй по-православному! А теперь пришла мужицкая власть, православие поставлено как любая секта, уравнены в правах! хи-хи-хи!.. Православная секта!., и-ихи-хи-хи-хи… В секту за шиворот не потащишь!.. Жило православие тысячу лет, а погибнет, а погибнет, — ихи-хи-хи! — лет в двадцать, в чистую, как попы перемрут. Православная церковь, греко-российская, еще при расколе умерла, как идея. И пойдут по России Егорий гулять, водяные да ведьмы, либо Лев Толстой, а то гляди и Дарвин… По тропам, по лесам, по проселочкам. А говорят — религиозный подъем!.. Видишь, краюха?.. — носят те, что на трех китах жили, православные христиане из пудовых свечей, — да носят-то все меньше и меньше. Я вот, православный архипастырь, пешочком хожу, пешочком… ихи-хи-хи!..
Серенький попик смеется весело и хитро, качает гробом черепа, жмуря в бороде глазки со слезинками. Кирпичные стены келий крепки и темны. На низком табурете сидит Глеб, склоненный и тихий, иконописный. А в углу в темном кивоте черные лики икон пред лампадами хмуро молчат. И Глеб долго молчит. Зноет знойное солнце, и в зное монашек поет. В келии же сыро, прохладно.
— …Да эээ!.. нельзя в полюшке рабоотать!..
— Что же такое религия, владыко?
— Идея, культура, — отвечает попик, уже не хихикая.
— А бог?
— Идея. Фикция! — и попик вновь хихикает хитро. — Владыко, преосвященный, говоришь? — из ума выживаю?.. из ума… восьмой десяток!.. не верю!.. Будет, поврали! понабивали мощи соломой!.. Ты — внучек?
— Владыко! — и голос Глеба дрожит больно, и руки Глеба протянуты. — Ведь в вашей речи заменить несколько слов словами — класс, буржуазия, социальное неравенство — и получится большевизм!.. А я хочу чистоты, правды, — бога, веры, справедливости непреложной… Зачем кровь?..
— А, а, без крови? — все кровью родится, все в крови, в красной! И флаг красный! Все спутал, перепутал, не понимаешь!.. Слышишь, как революция воет — как ведьма в метель! слушай: — Гвииуу, гвииуу! шооя, шооояя… гаау. И леший барабанит: — гла-вбум! гла-вбуумм!.. А ведьмы задом-передом подмахивают: — кварт-хоз! кварт-хоз!.. Леший ярится: — нач-эвак! нач-эвак! хму!.. А ветер, а сосны, а снег: — шооя, шоооя, шооя… хмууу… И ветер: — гвиииууу… Слышишь?
Глеб молчит, больно хрустит пальцами. Хихикает хитро владыко, ерзает на высоком своем табурете, — архиепископ Сильвестр, в миру князь Кирилл Ордынин, сумасшедший старик. Знойное небо льет знойное марево, знойное небо залито голубым и бездонным, цветет день солнцем и зноем, — а вечером будут желтые сумерки, и бьют колокола в соборе: — дон-дон-дон!..
——Князь Борис Ордынин стоит у печки, прижавшись к ней большою своей широкой грудью, сыскивая мертвый печной холод. В княжеском кабинете беззубо стоят книжные полки без книг, кои давно уже вывезены в совет, и слезливо, с глазами, выеденными молью, скалится на полки белый медведь у дивана. Маленький круглый столик покрыт салфеткой, и мутно мутнеет кумышка. Князь Борис не пьет рюмками, когда запивает. Борис звонит, медной кочергой от камина тыкая в кнопку. Приходит Марфуша, князь долго молчит и говорит хмуро:
— Налейте стакан и отнесите Егору Евграфовичу…
— Барин!..
— Слышали?! Пусть он выпьет за второе мая… Можете не говорить ему, что это от меня… Н-но пусть он выпьет за второе мая!.. Можете даже вылить, но чтобы я не знал об этом… За второе мая!.. Ступайте.
Князь Борис наливает медленно себе стакан, долго остро смотрит на муть кумышки, потом пьет.
— За второе мая! — говорит он.
Затем опять стоит у печки и опять пьет, молча, медленно, долго. И приходят желтые сумерки, шарящие по дому. И когда кумышка вся, князь Борис уходит из комнаты, идет медленно, нарочито-уверенными шагами. Дом притих в сумерках, в коридоре горит уже не светлая лампочка, тускло поблескивают мутные зеркала. Мать, княгиня Арина Давыдовна, сидит с Еленой Ермиловной, отдыхает от дневных своих больших дел.
— Второго мая… второго мая, матушка, соловьи начинают петь, после первомайского трудового праздника, и мы именинники… Ночи тогда синие, синие, холодновато-росные, обильные, буйные… Второго мая, — в пьяную майскую ночь и целомудреннейшую!.. А потом — потом мрак! Ночь!.. — говорит князь Борис.
— Что это такое ты болтаешь? — подозрительно спрашивает мать.
— Еленка, поди вон!.. Я с матерью хочу говорить. О братстве, о равенстве!..
— Это еще что?! — не ходи, сестрица!..
— Как хочешь, мать!.. как хочешь!.. Странно, тебя надо ненавидеть, мадам Попкова, а я ненавижу отца. Addio.
Комната отца похожа на сектантскую молельню. Красный угол и стены в образах, строго смотрит темный Христос из кивота, мутные горят у образов лампады и светлые, высокие восковые свечи, и перед кивотом маленький налойчик со священными книгами. И больше ничего нет в комнате, только у задней стены, около лежанки, скамья, на которой спит отец, князь Евграф. Пахнет кипарисовым маслом здесь, росным ладаном, воском. Сумрак церковный в комнате, спущены плотные гардины у окон — днем и ночью, чтобы не было света, и лишь тоска по нему.
Отец, сжавшись калачиком, подложив иссохшую руку под голову, спит на голой скамье. Князь Борис берет его за плечо, князь-отец еще во сне кротко улыбается и, не видя Бориса, говорит:
— Я во сне разметался, разметался?.. Да?.. Простит Христос!..
Увидав же сына, он спрашивает смущенно:
— Смущать? Смущать опять пришел, Боря? Князь Борис садится рядом, расставив большие свои ноги и устало упираясь в них руками.
— Нет, папочка. Поговорить хочу.
— Поговори, поговори! Поспрашивай! Простит Христос!
— Вы все молитесь, папочка?
— Молюсь, Боря.
Отец сидит, поджав ноги. Сухо светятся глаза, белые же его волосы, борода, усы — всклокочены. Говорит он тихо и быстро, быстро шевеля впалыми губами.
— Что же — спокой от молитвы?
— Нет, Боря, — кротко и коротко отвечает отец.
— Почему так?
— Правду скажу, правду скажу!.. Простит Христос. Грехи на мне, — грехи… А разве можно о себе просить господа? Стыдно о себе просить! За себя просить — грех, грех, Боря! Я за тебя молюсь, за Егорушку молюсь, за Глебушку молюсь, за Лидию молюсь, за всех, за всех, за мать молюсь, за епископа Сильвестра молюсь… за всех!.. — глаза отца горят сумасшествием, — или, быть может, экстазом? — А мои-то грехи — при мне они! Тут вот, кругом, около! Большие грехи, страшные… И за них молиться нельзя. Грех! Гордость не позволяет! Гордость! А геенна огненная — страшно!.. Страшно, Боря!.. Только постом спасаю себя… Что солнышка красного краше? — не вижу его, не увижу… Прокататься иной раз хочется на троечке по морозцу, попить сладко, иные соблазны, — отказываю! В смерть гляжу. Спасет Христос! — Отец быстро и судорожно крестится. — Спасет Христос!..