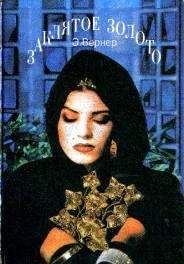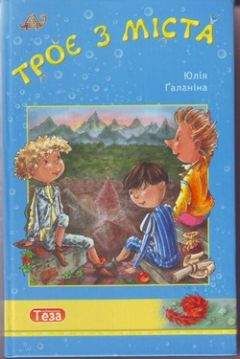Екатерина Шереметьева - Весны гонцы 2
Повернула к институту, стала думать, как приедет домой. Она не объясняла матери, почему не собирается в Забельск на каникулы, — в письмах трудно это. Рассказать проще. Да, невозможно тут мотаться одной — Олег уехал на лыжную базу, Зинке с Валерием никто сейчас не нужен. Да, завтра с утра за билетом, потом купить братишкам какие-нибудь подарочки…
Алена отвернула лицо — слезы то и дело выступали, шмыгнула мимо вахтерши. Медленно пошла по лестнице общежития — пусто, тихо, как всегда на каникулах. Вспомнила, что даже хлеба нет у нее — ведь не думала сюда возвращаться. Нет, опять идти мимо вахты и в магазин с опухшей физией… Сейчас не голодна, а завтра утром — долго ли!
Внизу на лестнице послышались чьи-то стремительные шаги — кто это? Длинноногий Арпад уже в Будапеште. Алена глянула в пролет: меховая куртка пронеслась по нижнему маршу и скрылась. «Черт его всегда приносит!» — Алена побежала. Шаги догоняли ее. Помчалась через две ступеньки. Вытирала на ходу глаза — ведь пристанет: «Что с тобой?» — до всего ему дело. Вдруг нога соскользнула с каменного края, подвернулась, в щиколотке хрустнуло. Алена повисла на перилах, стоя на одной ноге. И мгновенно боль, все волнения дня отступили — сломала… Перелом оборвал актерскую жизнь Соколовой. Алена увидела себя хромой. Вспомнила ужас, пережитый в пьяную ночь, — тогда не отморозила: спас Глеб. Чуть не крикнула: «Глеб, Глеб, Глеб!» Странно холодело лицо, руки. Туман перед глазами. «Так теряют сознание! Ох, к чему теперь мне это?» — неловко повернулась, села на ступеньку: «Все кончено. Все. Все! Нет, что же делать?»
— Ты что? — донеслось снизу.
Алена вздрогнула — Гриша Бакунин!
— Ты что? — повторил он, останавливаясь перед ней.
— Сломала ногу…
Гриша взглянул на ее повисшую ногу, застегнул распахнутую куртку.
— Так врача надо! Или… Очень больно? Погоди минуту… — Гриша побежал по коридору.
«Всё. Всё! Одинаковые куртки — почему? О-о-о! Не шевельнуть! Сломала. Глебка — всё. Теперь всё!»
В коридоре быстрый топот шагов. Перед ней две меховые куртки. Разные: Сашкина мохнатей…
— Едем. Травматологический пункт, круглые сутки, — говорит Сашка строго. — Не умирай от страха, ведь у Анны Григорьевны неверно срастили, — словно прочел Аленины мысли. — Так это двадцать лет назад, в какой-то глухомани. Давай руку.
— Я помогу.
— Руль пятерки не ставит зря. Беги за такси. Стой. — Саша скидывает мохнатую куртку на руки Грише, снимает пальто с Алены. — Оставишь у вахтерши. И дуй за такси…
То, что твердо усвоили на уроках сценического движения, сейчас как нельзя больше кстати. Алена собрала силы, крепко оперлась на плечи Саши, он поднял ее и начал осторожно спускаться по лестнице.
Глава четвертая
С моей душой стряслась беда,
С душой моей стряслась беда.
Сны повторялись из ночи в ночь… Смеясь летела в темноту, клокочущую, как штормовое море, — страшно и весело. Ее подхватывали жесткие руки. «Не отдам. Не отдам… Не отдам! — будто колокольный звон оглушал, дрожал в груди. — Ведь ты любишь меня. Не отдам!»
Ее смех сливался с волнами звона.
Все обрывалось.
В затихшей темноте проступали грустные янтарные глаза. Они становились все больше, тревожней, и вот уже глаза, во весь экран, смотрят близко с укором, с ужасом.
Алена смеется:
«Люблю — такая, значит, судьба моя. Значит, доля моя такая».
— Не прячься за Машу, — едва слышно упрекает Агния. — Это совсем другое.
Срываясь в слезы, вступает откуда-то сверху невидимая Глаша.
— Кошмар! Непостижимая личность. Двум огням в одной печи не гореть.
«Не отдам», — гудит в груди. Алена смеется, просыпается.
И снова что-то мелькает у самого лица — это пухлые кулаки Женьки.
— Деградируешь, деградируешь… Не смеешь играть Дуню.
— Кармен второй половины двадцатого века — анахронизм! — Это Олег… как прокурор. — Снять со всех ролей.
Алена никого не видит, но чувствует каждого, чувствует обступающее ее отчуждение.
— Променяла клад на иголку — дура! Кавторанга на голодранца, дура!
Алена почти рада пошлым словам, визгливому смеху Клары.
— Отстань. Отстань… Отстань! — Рада, что встречает острый прищуренный взгляд Джека. — Все отстаньте.
И опять просыпается.
Снова тихо. В черноте огни.
Стальной корабль врезается в бесконечно возникающие валы, вода кипит по бортам. Хлопья пены и брызги взлетают выше огней, падают на палубу, растекаются, чуть блестя.
«…Ходил от носа к корме и обратно, сделал столько шагов, что по прямой дошел бы уже до тебя и знал бы уже, что случилось с тобой. Что случилось?»
«Сама не знаю, что случилось. Не знаю. Ты мне самый нужный, самый родной навсегда», — готова крикнуть Алена, а в груди звенит, дрожит: «Не отдам!» — она смеется.
В ночь перед приездом Глеба Алена не уснула ни на минуту, а сны шли. Шли, перемежаясь с явью, более горькой, чем сны. К утру все тело ныло, под ложечкой жгло. Она уже не могла слушать мерное дыхание спящих, накрывала подушкой голову и тихо стонала.
Сидя на лекции по истории театра, Алена не понимала ни одного слова. Минутами проваливалась в сон. Очнувшись, натыкалась на горящий, допрашивающий взгляд Сашки. В перерыве увидела, что он идет к ней, взяла под руку Джека, принялась громко хвалить его новый галстук. По лицу Сашки точно судорога пробежала, он ушел с Валерием и Зиной.
На фехтовании Руль два раза шлепнул Алену рапирой по спине.
— Мазила. Проснитесь! — И затем (высшее наказание!) сказал: — Уйдите. Противно смотреть. — И заставил до конца урока просидеть у стены гимнастического зала.
Перед уроком Соколовой Алена еще что-то говорила с Агнией о четвертом акте — кажется, рассказывала, как объясняла Лиля непростые, странно жестокие слова Ирины, поправила скамейку, неточно поставленную Женей. А когда в аудиторию вошли Соколова и Рудный, Алена охнула, будто они явились нежданные, не вовремя, и словно потеряла сознание. Перед глазами, как в расстроенном телевизоре, стремительно мчались два лица.
* * *Гудели, звенели, переливались голоса, там и тут взрывался смех, топали, шаркали бегущие ноги — знакомое, как любимая мелодия, бурление перерыва.
Соколова спускалась по широкой белой мраморной лестнице. Ее обгоняли, бежали навстречу, останавливались у знаменитых перил, где каждый день происходило столько робких и решительных, комических и трагических объяснений. Сколько юных лиц вокруг, сколько глаз смеющихся, мрачных, сосредоточенных, ищущих — хорошо!
Ну и репетиция выдалась! Еще до начала Анна Григорьевна сказала Рудному:
— Что-то ваша любимица вовсе уж не в себе.
— Не говорите. А Саша? Вроде Муция Сцеволы, сжигающего руку. Сегодня, кажется, приезжает Глеб. Я упорно за него.
Соколова не ответила: все были на местах — пора начинать.
Акт вдруг пошел вкось. Не из-за Агнии — Ирины, хотя она репетировала все подряд только второй раз. Первый выход Маши, ее разговор с Чебутыкиным внес открытую нервозность. Соколова не остановила, хотелось дать Агнии ощутить себя в общем течении акта, а эта сцена без Ирины. Объяснение Тузенбаха с Ириной пришлось прервать.
— Не узнаю Тузенбаха. Откуда требовательность? Почти допрос. Это на грани грубости. Безобразно. С выхода.
Желваки вздулись на худых щеках Огнева, он осторожно взял Агнию под руку, ушел за кулисы.
Больше Соколова не поправляла Сашу. Все лучшее, что накопил он — Тузенбах в своем отношении к Ирине, что иногда выходило, иногда не выходило, — все собралось, словно проявилось.
— Молодец. Ай, молодец! — тихо радовался Рудный. — И отлично направляет, ведет Ирину…
Соколова ждала их прощанья перед дуэлью. Саша сам назвал это место роковым для себя — не давалось оно непокорному комсомольцу пятидесятых годов. И вот впервые Тузенбах безропотно ушел на смерть. Возмутительно бессмысленную, в канун осуществления давней драгоценной мечты, ушел, не протестуя, на смерть во имя ложных, подлых, чуждых Огневу понятий о чести.
— Ай, молодец!
Соколова промолчала. «Может быть, случайность? Как он это нашел? Любовь научила?» Думать о нем было некогда — акт шел дальше.
Вершинин с Ольгой. Надо уходить, у него считанные минуты. Пора, пора уходить, а Маши нет. Все идет, как говорят студенты, нормально, — так, мелкие ошибки, недоделки, о них будет разговор после репетиции. В глубине слева появилась Маша. Легкое тело только ей присущим, беспомощным и сильным движением метнулось навстречу Вершинину. Она прижалась к нему, словно окаменела, тут же подняла голову, чтоб смотреть в его лицо. Ее глаза, едва заметные движения пальцев говорили. Последний раз она видит его, последний раз ее руки касаются его плеч, шеи, волос. Маша зарыдала.