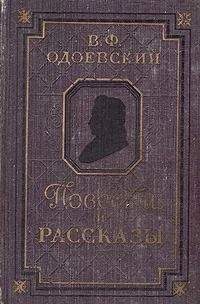Владимир Дудинцев - Повести и рассказы
Клава тряхнула волосами и села около Снарского. Наступила тишина. Она медленно остывала, и когда остыла, Васька кашлянул, попробовал голос:
— Вроде и расходиться не хочется. А, дядя Прокоп?
— А чего нам расходиться?
Снарский встал и быстренько ушел к себе.
— Вечер наш, землянка наша, — сказал он, появляясь в проходе, перелистывая на ходу большую книгу в газетной обертке. Это означало, что у дяди Прокопа очень хорошее настроение.
— Чего мы тогда читали? — Он надел очки. — Про Балду читали? Ну, тогда давай про царевну и про семерых богатырей. Нас как раз семеро, богатырей-то.
Все заерзали на лавках, подсели ближе.
— Без меня не начинайте! — крикнула из прохода Настя. — Иду!
Снарский подождал, окинул всех беглым взором, дремучим, как сказочный лес, и возвестил:
— «Царь с царицею простился, в путь-дорогу снарядился…»
Начался один из тех неожиданных семейных вечеров, которыми Снарский иногда заканчивал удачный рабочий день. Взрывники притихли. Перед ними, воинственно светясь, крутя над головой пальцем, играя бровью и плечом, выступал их маленький старичок — родной, лукавый и мудрый. Дядя Прокоп и сейчас был верен себе. Одному ему ведомыми путями он перенес сказку из тридевятого царства в жарко натопленную землянку, а своих богатырей сделал ее героями.
— «Белолица, черноброва», — прочитал он, остановился, — лишь остановился, и Клава заулыбалась.
— «Нраву кроткого такого», — продолжал он смиренно, и взрывники, конечно, поняли, о чьей кротости идет речь. Они уже узнали этот кроткий нрав!
И наступил такой момент: Снарский умолк, пробежал глазами страницу, крякнул с удовольствием и поднял палец.
— «Старший молвил ей: „Девица, знаешь: всем ты нам сестрица, всех нас семеро, тебя все мы любим, за себя взять тебя мы все бы рады…“»
И, разведя руками, дядя Прокоп резонно ответил за царевну:
— «Для меня вы все равны, все удалы, все умны, всех я вас люблю сердечно, но другому я навечно отдана. Мне всех милей королевич Елисей». Вон как отбрила, — сказал Снарский. — Смотри-ка! «И согласно все опять стали жить да поживать!»
Дочитав до конца, он со вздохом закончил, глядя на последнюю страницу:
— Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок, — хотя эти слова вовсе и не были там напечатаны.
— Клава, кто же у тебя королевич Елисей? — спросил Васька в тишине.
— Вот еще! — Клава покраснела, сердито отодвинулась. — Нужно мне!
— Нельзя и спросить! Ты не обижайся. Ты скажи нам все-таки.
Кладовщица не ответила.
— Клав!
— Дурак! Пристал… — у нее даже слезы выступили.
— Ужин, что ли, собирать? — осторожно спросила Настя.
— У богатырей о таком деле не спрашивают, — расправляя плечи, сказал Снарский.
Прошло два месяца — декабрь и январь. Склад взрывчатки опустел наполовину. Порожние ящики из-под мелинита Клава вымыла горячей водой, просушила и сложила штабелем в снежной траншее.
Каждое утро пол землянки начинал вздрагивать от частых подземных ударов. Они чередовались, — то дальше, то ближе, то сразу вместе, перекатом — по всему ущелью.
— Даже на слух заметно, что другая работа идет, — говорила Настя, провожая Прокопия Фомича. — Как ты думаешь, там слышат?
— Там? А то нет? У Прасолова сейчас форточка открыта. Он нашу музыку любит.
Снарский был доволен — положение на трассе вполне соответствовало расходу взрывчатки. На тринадцати пикетах лежали все те же гранитные глыбы, но каждая из них была теперь оплетена сетью крупных и мелких трещин. Стоило сунуть лом в одну из этих щелей — и глыба рушилась, превращалась в ворох щебня.
Прокопий Фомич все чаще рисовал на фанере простенький чертежик — линию, разбитую на двадцать пикетов. Он прикидывал, сколько месяцев осталось до конца работы, и получалось — два с небольшим.
— Вот это номер! — изумлялся он, сидя на корточках перед чертежом, почти касаясь лбом фанеры и пуская вверх дымную струйку. — В марте! Вот это задача! Что же дальше делать будем? Придется за цельную скалу приниматься…
Каждый раз, услышав эту беседу Снарского с самим собой, взрывники начинали возбужденно шептаться:
— Тимофей, ты сколько до обеда сделал?
— Сто два. А вы?
— Сто пятнадцать.
— Дядя Прокоп! Павлик с Гришукой опять дали сто пятнадцать!
— А? — Снарский оборачивается к ним.
— Честное слово! Дядя Прокоп, они сами говорят! Не веришь?
Прокопий Фомич, не отвечая, долго смотрел на ребят, качал головой. Они смущались, начинали тихонько посмеиваться, затевали возню. А дядя Прокоп, совсем присмирев, смотрел, смотрел на них, сидя на корточках, утопив палец в пепле трубки.
Один раз, не выдержав его взгляда, Гришука бросился на Ваську Ивантеева. Тот с хохотом принял его в объятия, придавил, стал мять. Вынырнув из-под его руки, Гришука посмотрел Снарскому в глаза и сказал:
— Дядя Прокоп! Я знаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь про нас!
— Я вспомнил, — сказал Прокопий Фомич, медленно поднимаясь, и усмехнулся, — я припомнил, как вы писали свои проценты. Сто пятьдесят, сто тридцать, а хвастовства, обиды на все триста. А теперь вот двести даете — и радуетесь, когда вас перегонят. В чем дело? Может, я не понимаю.
— Это мы, чтобы скорее план кончить! — сказал Гришука.
— Пусть он сделает триста, — маленький Мусакеев спокойно подошел к Гришуке. — Пусть пятьсот. Я ему скажу спасибо.
Тут Гришука неожиданно дал ему подножку и сам же полетел на нары.
— Простой человек. Не хитрый, — сказал Мусакеев смеясь. — Работает хорошо.
Им было весело и просторно в маленькой землянке, где даже повернуться негде — вот нары, а вот уже и стол. Считая взрывы, они не замечали, как убегают дни, один за другим. А дни, между тем, стали длиннее, синева неба гуще, и все ослепительнее были переливы солнца, все теплее становилось спине под этим сияющим весь день горном. Блестящая снежная корка около землянки порозовела, и дядя Прокоп однажды остановил всех около тамбура:
— Кто скажет, что это такое?
— Это от взрывчатки, — сказал Саша.
— Нет, милые. Вы молодые, должны знать. Это простая штука — снежные бактерии ожили. Это самая настоящая весна.
А у Залетова и кладовщицы весна была особенная. Павла теперь только и видели на трассе, где они с послушным Гришукой неизменно давали по две с половиной нормы, или же за столом, перед лампой, поставленной прямо на учебник. Волосы его уже пора было подстричь. Ложился Залетов позже всех, и ночью, когда все спали, можно было услышать его сосредоточенный, суровый шепот.
Каждый вечер к нему подсаживалась Клава и, захватив локтями четверть стола, начинала выписывать в тетрадке столбики цифр. Она строгала бритвой карандаш и сдувала стружки в сторону лампы. Иногда она спрашивала:
— Сколько будет восемнадцать умножить на четырнадцать? Кто скажет? Скорей!
И, конечно, с нар отвечал Васька, и, конечно, ошибался:
— Двести сорок два!
Кладовщица давно уже перестала напевать свое «ту-ру-ру», что-то медленно горело в ней. Как-то утром, когда все одевались, чтобы идти на трассу, Клава невзначай сказала Павлу:
— Залетов, у тебя ватничек на мой рост. Давай поменяемся! Теплее будет — и тебе и мне…
И они тут же обменялись телогрейками.
— Тепло тебе? — спросила Клава.
— Небо и земля! А тебе?
Клава кивнула.
И Васька — он всегда был начеку, — Васька подошел к ней со своей телогрейкой.
— Примерь, может, и моя подойдет. Надевай, не бойся!
А когда Клава примерила громадный ватник, Васька сам надел его и пошел к нарам, поглаживая грудь и спину, оглядываясь на взрывников.
— Теперь и мне будет тепло!
Прокопий Фомич стал замечать в Ваське новую черту. По вечерам, когда взрывники, поужинав, сбивались в «кружок бритья» или «кружок моментального ремонта обуви», Ивантеев начинал вдруг пересаживаться с места на место и все оглядывался, все искал что-то.
И один раз, взяв фонарь, чтобы навестить коня, Снарский остановился у выхода и сказал:
— Ты что, Вася, шапку потерял? Вон она, висит. Пойдем-ка сена Форду принесем.
На снегу, под звездами, Васька, выдирая из стога охапку сена, обернулся к Прокопию Фомичу:
— Дядя Прокоп! Может, меня еще с кем пошлешь. Я опыту уже набрался!
Снарский смотрел в фонарь, регулируя фитиль. Он не ответил Ваське.
— Честное слово. А то она молчит, молчит. А ты знаешь, я какой. Мне поговорить надо. А то я вроде виноват в чем получаюсь. Дядя Прокоп…
— Подумаю, — сказал Прокопий Фомич.
В середине февраля поздно вечером, лежа за занавеской, он услышал в большой землянке шлепки босых ступней по полу.
— Тебе чего? — спросил Залетов. Он, как всегда, сидел за столом.
— Давай-ка отодвинь, Паша, книжечки, — это был голос Васьки — деловой, суховатый. — Давай-ка побеседуем.