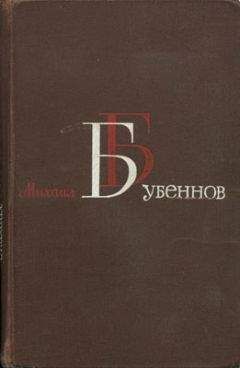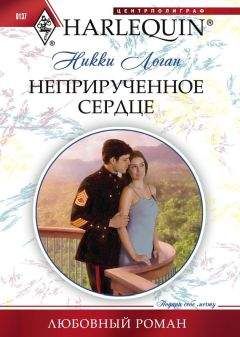Ольга Берггольц - Дневные звёзды
Я встречалась в Угличе, Ярославле и Рыбинске с десятками различных людей, главным образом интеллигенцией — газетными работниками, архитекторами, учителями, библиотекарями, молодыми художниками, инженерами, встречалась и с рабочими Угличской ГЭС, на которой встретила я и ветеранов-волховстроевцев, и ровесников-днепростроевцев, — и о чем бы мы ни говорили, огромные события прошлого года, перечисленные мною, вплетались в наш разговор или стояли за ним так, как стоит, бывает, над омытой грозой равниной высокая, ясная радуга.
…И каждый раз, возвращаясь в свою комнатку с геранями, я записывала не только пережитое и увиденное за сегодняшний день (многое было потом из этого опубликовано в очерке, в «Литературной газете»), но обязательно заносила на поля сегодняшнего все, что заново начинало жить во мне. А начинало жить разное и неожиданное. Например, вдруг заново переживала я вечер перед двадцатипятилетием Октября в блокированном Ленинграде, когда после долгой, изнурительной тьмы дали первый ток — свет на первые три тысячи жилых объектов, то есть домов, и этот свет был с Волховстроя, первенца электрификации, детища Ленинграда: он первый прорвался к нам из-за кольца. И в тот вечер, когда дали свет, в вымерших квартирах вспыхнули окна, ведь они были не затемнены, а немец бомбил, и надо было срочно гасить свет в этих жилищах — взламывать двери, чтоб войти туда… Но главное — в том, что маленький Волховстрой всю блокаду питал своим светом и силой колыбель революции… Но об этом надо подробно, очень подробно! Это ведь тоже все для Главной книги, как и все, что было в Угличе. То вспоминала, как монтировали первый наш электросиловский генератор на Днепрогэсе — его назвали «Ворошиловским», потому что почти все, кто его монтировал, сражались в дни гражданской войны под командой Ворошилова, — но это было еще в дни ранней юности. И вот шла через меня вся юность, со всеми ее белыми ночами, с ее ясной, простой любовью, с ее фанатической верой в то, что далекое, прекрасное будущее ты можешь заставить прийти завтра же, запросто, вот в этот дом, — шла вся молодость и обрывалась большим и страшным испытанием конца тридцатых годов…
…То записывала я после встреч с архитекторами и художниками, какими должны быть силуэты будущих волжских городов, и как мы откроем и освоим все древние секреты русских безымянных гениальных зодчих и художников и узнаем их славные имена, и какая превосходная многообразная живопись у нас будет, и мы все это вручим наследникам, потомкам (среди них будет и удивленный Вовочка моей землячки, который уже будет «все понимать»), и сидя в одиночестве, не могла сдержать широкой, неуходящей улыбки, представляя их восторг и благоговение перед нашей эпохой, перед этим годом, перед партией, перед нами…
Так, вместе со всей страной пережив громадные события 1953 года, сердце вместе с нею готовилось к какому-то новому восхождению.
На этом пока я обрываю записки о поездке в город детства…
1954
Та самая полянка
Поздно вечером пришел мой папа и заявил, что останется у меня ночевать.
— А завтра я поведу тебя в Зоологический сад, — прибавил он строго. — Да, да. Утром. Обязательно.
«В градусе, — отметила я, — только бы «Гаудеамус» не стал исполнять…»
В градусе мой папа бывает редко, но зато градусы у него самые разнообразные. В градусе наиболее низком, в так называемом «недопиите», он брюзглив и придирчив: разносит порядки на хирургическом отделении (которым сам же заведует!), жестоко бранит местком, куда его «нарочно все время выбирают», громит райздрав и назойливо требует от меня — именно от меня — ответа, «почему все эти безобразия творятся?».
В градусе чуть повыше он сосредоточен, серьезен, с нежностью вспоминает страшные фронты мировой и гражданской войн, на которых служил военно-полевым хирургом с первого дня мировой вплоть до кронштадтского льда, обсуждает вопросы международной политики — «мой прогноз таков…» — и очень сердится, если его прогнозы оспариваешь.
В градусе самом благоприятном он шумно и весело куролесит: без поводов рукоплещет, поет старинную невскозаставскую песенку, как все такие — печально-веселую:
А носил Алеша кудри золотые!
Пел великолепно песни городские…—
и встряхивает при этом все еще волнистой золотисто-седой шевелюрой, декламирует отрывки из державинского «Бога» и — старый дерптский студент — обязательно стремится (басом!) исполнить «Гаудеамус». В этом состоянии его одолевают самые необычайные желания: «родить еще ребеночка», «написать трагедию в стихах» или — вот как сегодня — в пожарном порядке тащить меня, взрослого, ответственного, замученного к тому же «личным делом» работника редакции, — в Зоологический сад.
— Ох, папа, — сказала я, — ты же знаешь: мне некогда. И… не до того!
— Ну, ну, ну! Оставьте ваши штучки. Я тебе отец или нет? Я тебя породил. Сказал — поведу, и поведу.
Он помолчал и вкусно, значительно добавил:
— Льва увидим. Царя зверей.
Я невольно улыбнулась. Заметив это, папа пришел в восторг и захлопал в ладоши.
— Мамонька родная, я ведь тракторист! — закричал он, куролеся, и, вдруг став совершенно серьезным, негромко спросил: — Ну, а дела твои как?
Я оживилась. В то время два человека подали на меня кляузное заявление, и разбирательство тянулось уже долго-долго… Это томило и мучило меня, это было неотступно, я могла говорить о «моем деле» в любое время суток сколько угодно, я мысленно произносила бесконечные патетические речи и вела горькие внутренние диалоги с редактором, с секретарем парткома, с моими обвинителями, я даже во сне видела только это…
— Ты знаешь, папа, — заговорила я, — они опять отложили окончательный разбор! А на прошлом собрании редакции эта Климанчук несла такое… такое… что я просто… Нет, я этого так не оставлю! Я сама подам на нее заявление, понимаешь, сама! И сразу в наивысшую инстанцию… А сейчас я пишу новую, очень подробную объяснительную записку по поводу той статьи. В этой записке…
Я, горячась и терзаясь, излагала суть записки, а папа смотрел на меня пристально, совершенно трезво и только поминутно вставлял докторские реплики: «ну-ну», «да-да», «так-так».
— Ой, страхолюдная же ты стала! — вдруг воскликнул он, не дослушав меня. — Ой, психопаты вы, господа, все-таки… Ну, ладно. Ложись спать, завтра нам рано ехать. Я тоже ложусь… «Я царь, я раб, я бог, я червь».
— Ложись. Я еще посижу, напишу черновик заявления. Не того, а другого. По поводу другой моей статьи… Я сейчас принесу тебе матрас.
— Не надо. Я старый солдат обойдусь без матраса. «На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук».
— Папа, только без пения! У меня и так голова скрипит.
— Ну, ладно, ладно. Отец я тебе или нет? Ох, тяжелый случай…
Он улегся на жесткой и очень узенькой кушетке, а я закрыла лампу газетным кульком и уселась перед листом бумаги. Мне было очень одиноко, потому что папа не дослушал про «мое дело», и ничего вообще не понимает ни в нем, ни в моем состоянии, и неизвестно чем доволен, а я… Как это все-таки противно — даже не дослушал… а я…
А он вдруг окликнул меня ласково и грустно:
— Лялька! Девчонка…
— Ну что, папа?
— А помнишь, как в Заручевье я и мать не пустили тебя с Муськой за грибами? На какую-то вашу полянку… Давно дело было… Ревели-то вы как, господи…
— Ах, папа, ну отстань, какая еще там полянка! Не мешай…
Он замолчал.
Я сидела долго, томилась, подбирала формулировки, мысленно бранилась с Климанчук, курила до сердцебиения. Меня душила обида — было ужасно жалко себя, я твердила шепотом: «Устала, устала, совсем устала…»
Я уснула на рассвете, мне снилось какое-то собрание, и вдруг в разгар этого собрания послышался папин голос:
— Лялька-а! Вставай! В Зоологический едем!
Я с трудом разлепила глаза: «Не забыл…»
— Папа, еще десяти нет. Куда мы в такую рань попремся?
— Вот и хорошо, что рань: там в десять как раз открывают. Вставай, посмотри — какое солнышко-то! Ну-ну, давай побыстрее…
Он был весел, бодр, необыкновенно деятелен, его лицо с большими голубыми глазами было лукавым, как у человека, который задумал удивить мир, и злил он меня всем этим до изнеможения.
В старом своем военном картузике, который я помнила с детства, в коротком пальто реглан, похожем на бабью юбку, папа бежал по улице так, точно опаздывал на поезд. Я семенила за ним и тихо ругалась. В трамвай мы вскочили на ходу.
А возле Зоологического сада не по-городскому пахло прохладной осенней землей, деревья стояли бронзовые, строгие и не шевелились, замерев, точно понимали, что чуть теплый, бледно-золотой солнечный свет льется на них в последний раз. Строгость, умиротворенность и милая прозрачность осеннего дня кольнули меня, как льдинкой, особой грустью — тоже строгой, умиротворенной и прозрачной.