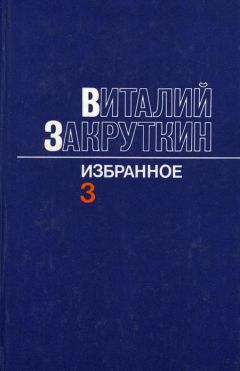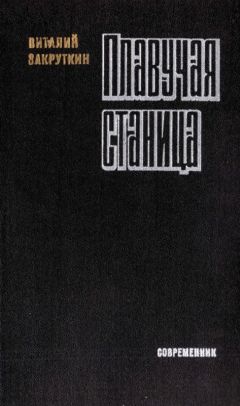Виталий Закруткин - Сотворение мира
— Теперь можно ждать, — сказал он удовлетворенно.
— Чего ждать? — улыбнулся Максим.
Старый Тинкхэм тоже улыбнулся:
— Чего-нибудь. Хотя, конечно, ждать нам придется долго. Мне хорошо известно наше американское правосудие. Поскольку у нас нет долларов, ждать придется очень долго.
Поздно ночью, лежа рядом с Максимом, папаша Тинкхэм шепотом заговорил о том, что всех троих волновало больше всего, — об их деле.
— Кроме нас арестовано еще несколько человек, — сказал Тинкхэм. — Эта самая потаскушка Марта с ее байстрюками, однорукий Херд, если ты его помнишь, Вильям Галлигас с женой и сыном, а также негр Эрл с дочерью и… и моя дочь Лорри… Они все показали, что шерифа убил Том Хаббард.
— Откуда это тебе известно? — спросил Максим.
Лежавший у стенки Фред Стефенсон сказал негромко:
— Лорри удалось передать мне записку. В записке написано, что всех этих людей опрашивали представители федерального жюри присяжных и что все в один голос заявили: смертельный удар лопатой нанес шерифу Том Хаббард, которого в лагере называли Томом Красным. Они сказали также, что Том Красный скрылся тотчас же после бегства полисменов.
— Это несколько облегчает нашу судьбу, — отозвался папаша Тинкхэм. — Но нам предстоит еще очная ставка с тремя полисменами, на глазах которых было совершено убийство, а это не предвещает ничего хорошего.
— Почему?
— Потому что полисмены не захотят признаться в том, что они струсили и упустили человека, убившего шерифа, человека, который был вооружен только лопатой и мог быть арестован на месте.
— Вообще, с нашим делом будут тянуть, — добавил Фред. — Возможно, они нас переведут в Винтер-Гарден, а потом будут таскать по всем штатам в поисках новых улик. Могут даже довести дело до верховного суда, а там задержать на многие годы. Таких случаев было немало.
Понизив голос до глухого шепота, папаша Тинкхэм сказал:
— Ты же знаешь, Макс, что представляет собою наш верховный суд? В народе его называют «судом девяти старцев»… Это девять выживших из ума развалин, назначенных на пожизненную должность судей. Они ничего не признают, кроме крупных взяток, и готовы, если это необходимо, осудить самого господа бога…
Фред заворочался, раздраженно почесал белесые космы давно не стриженных волос.
— Три года они томят в тюрьмах этих несчастных, ни в чем не повинных итальянцев Сакко и Ванцетти. Их обвиняют в убийстве и ограблении какого-то кассира, тянут это дело, и конца ему не видно.
— Хорошее же у вас правосудие, — сказал Максим.
— Наше правосудие защищает только тех, у кого большой карман, — проговорил Фред, — остальных оно обвиняет. В прошлом году сенатская комиссия вздумала расследовать аферы воров-миллионеров, которые нахапали несметные сокровища. Ты думаешь, суд осудил их? Ничего подобного. Все они здравствуют и поныне. Вот каково наше правосудие…
Максим отвернулся к стене, сделал вид, что задремал. Папаша Тинкхэм, вздыхая, спал рядом. Вскоре послышалось ровное дыхание уснувшего Фреда. Максим полежал на боку, потом тихонько перевернулся на спину, открыл глаза. Засиженная мухами электрическая лампочка отбрасывала на потолок слабый отсвет. В неярком ее свете было видно, как с потолка, оставляя за собой тонкую паутину, спустился и, раскачиваясь, повис в воздухе серый паук. Под полом несколько раз пропищала, зацарапала когтями о камень и стихла голодная крыса.
«Да, — с тоской подумал Максим, — нет жизни, только одно название… „туман, разогнанный лучами солнца и отягченный теплотою его…“».
Уснул он перед рассветом и во сне стонал и всхлипывал.
6Весна стояла сухая, солнечная. Ночи были тихие, а перед полуднем разгуливался восточный ветер и дул ровно и сильно, осушал влагу по низинам, выдувал по крутым взлобкам холмов мелко заделанное зерно яровых посевов. На закате ветер слабел, а в сумерках утихал, пропадая за холмами. Дожди пошли только в конце мая. Они обильно увлажнили землю, оживили поздние яровые, омыли тусклые, покрытые пылью зеленя.
Всю весну Григорий Кирьякович Долотов ездил по волости. Он побывал в каждой деревне, в каждом селе, проверял работу сельсоветов, заходил в школы, беседовал с крестьянами. Чем дальше от волостного центра отстояли села, тем хуже, как в этом убедился Долотов, шла там работа: председатели сельсоветов отсиживались по домам; мосты на заросших бурьянами неезженых проселках зияли провалами; сбором налогов никто не занимался, и у отдельных хозяев накопились долги за два и даже за три года.
Очень много земли в волости пустовало. Пробираясь от деревни к деревне, Долотов видел бескрайние пустоши, на которых, точно островки в голубовато-сером море полыни, зеленели отдаленные одно от другого крестьянские поля. Полевые межи были отбиты неровно, на глазок, кривуляли по всем направлениям, далеко обходили каждую, даже самую мелкую, ложбинку, каждую водомоину, и всюду к полям подступала, теснила пшеничные ростки густая, с горьким запахом полынь.
— Вы что же, не всю землю раздали в наделы? — спросил Долотов председателя сельсовета в отдаленном селе Крапивино.
Крапивинский председатель, хилый мужичишка с выгоревшими на солнце усами, покосился испуганно:
— Как так не всю? Ту, что была, скрозь раздали, поделили подушно.
— А чего ж у вас поля раскиданы по пустошам так, что от одного поля до другого за день не доедешь? Разве нельзя навести порядок, чтобы полынь не забивала посевы?
— Да ведь каждый хозяин по-своему землю планует, — развел руками председатель. — Его ж не заставишь сеять рядом с соседом. «Мне, — говорит, — где сподручнее, там я и посею».
— Вы что ж, и выпасы разбросали по клочкам? — спросил Долотов.
— За выпасами у нас вовсе никто не глядит, скот выгоняют куда кому вздумается, по полынкам пасут.
— И молоко небось в рот нельзя взять?
— Так точно, горчит молоко, — согласился председатель, — да народ привык, от горькости, говорят, отравления не бывает.
— Л ты сам не пробовал поломать эту дурость с полями и с выпасами? — с сердцем сказал Долотов. — Или твои поля тоже по всему свету раскиданы, а корова на полыни пасется?
Смущенный председатель оправил солдатский пояс на белой в крапинку сорочке:
— Мне от народа никуда не уйти, я должен к людям подстраиваться.
— Подстраиваться? — закричал Долотов. — Какой же из тебя, к черту, руководитель? Как же ты тут Советскую власть представляешь? Подстраиваешься? Плетешься сзади? И тебе не совестно?
Долго еще пушил Долотов обескураженного крапивинского председателя. Тот оглядывался, пятился к дверям, и Долотов признался себе, что он сам, руководитель волости, виноват больше, чем кто-либо другой. Но, с другой стороны, Долотов понимал и то, насколько трудно изменить привычный уклад глухих углов, поломать все косное и темное, что определяло крестьянскую жизнь веками. Школы ликбеза работали по волости плохо. Один агроном — он жил в Пустополье с семнадцатого года — не заглядывал в деревни, а разводил в своей усадьбе гусей и цесарок. Заведующий волостным земельным отделом Паклин, по профессии телеграфист, был прислан из города по решению укома и ничего не понимал в сельском хозяйстве.
Однако Долотова больше всего печалило то, что в начале года, перед весенним севом, распалась единственная в уезде ржанская коммуна «Маяк революции». Организовать коммунаров никто не сумел, они начали ссориться, разбегаться по своим хатам. Как только восстановили ржанский кирпичный завод, все рабочие покинули коммуну. «Нам возле заводских печей привычнее, чем в этой вашей неразберихе», — сказали они на прощание. Еще года полтора после этого коммуна «Маяк революции» влачила жалкое существование, кое-как обрабатывая часть земли и сдавая в аренду сенокосы, а потом распалась вовсе.
Савва Бухвалов, председатель коммуны, приезжал в Пустополье и рассказывал Долотову о ее бесславном конце.
— Потух наш маяк, — говорил Савва, — загасили его паразиты. Насмеялись над красивой идеей и загасили ее. Да и разве можно было начинать это дело с поломанными плуга-пи да с полсотней бракованных коней? Были, конечно, среди нас чистые люди, с душой и совестью, они верили в коммуну и работали так, что падали на пахоте рядом с покалеченными, обессиленными конями. Но немало было и сволочей, белых гадов да кулачья. Эти и подкосили нас под корень: свары между людьми сеяли, кулацкой своей агитацией бабам голову забивали, шептались по углам, скотину губили.
Пряча от Долотова запавшие, полные тоски глаза, Бухвалов говорил виновато:
— Вот видал я в совхозе новую машину. Называется — трактор «фордзон». Сама и плуги таскает, и сеялки. Дали бы нам в коммуну одну такую машину, чтоб людям труд облегчить, может, и не поутекали бы с наших позиций…